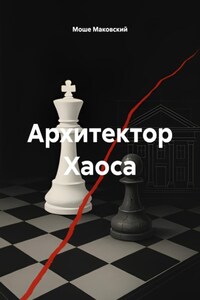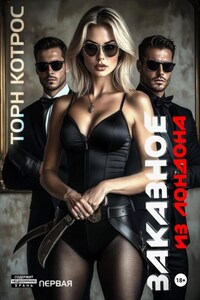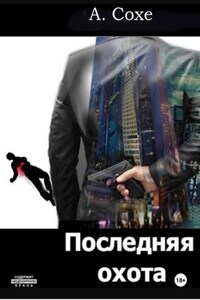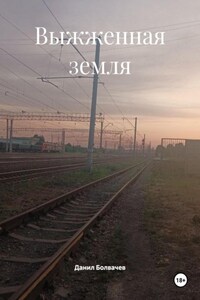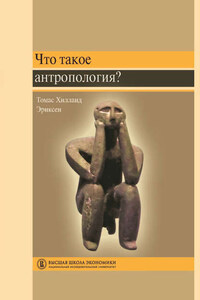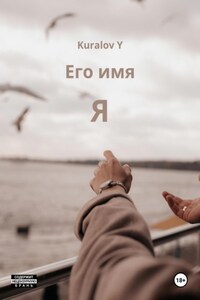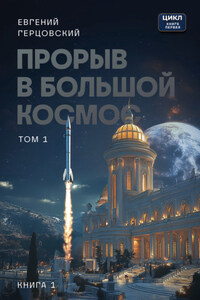Стеклянные башни недавно сданных гостиничных комплексов впивались в низкое небо Владивостока, как иглы в кожу живого города. Я стоял на смотровой площадке, но видел не этот стерильный ландшафт. Перед глазами вставал другой образ – ржавые гаражи, вонь дешёвого табака и мазута, рёв праворульных «японок» на разбитых дорогах. Город, который научил меня жить, который умирал на наших глазах в девяностые, но именно тогда он и дышал полной грудью. С хрипотцой, недельным перегаром, но – дышал.
***
Сейчас, в 2025-м, здесь все иначе. Стекло и бетон небоскребов режут небо там, где раньше торчали только телеантенны-«рогатки», у особо крутых–«спутниковые тарелки». Теперь камеры следят за каждым шагом на вылизанных тротуарах. Чистота, порядок, безопасность – декорации новой жизни. Но тогда… Тогда город вёл себя иначе. Грубо, натужно, как больной человек. Тогда были серые, как пропитанные дождем и тоской бетонные горы, панельные дома. Их деревянные окна – слепые глаза, затянутые то дефицитными тюлевыми занавесками, то старыми газетами. Дворы – пустыри с покосившимися качелями, где вместо детского смеха чаще слышалось матерное бормотание подвыпивших мужиков у скамейки. И запах… Запах был особенным. Кисловатый дух моря, прибитого к берегу водорослями, въевшаяся в стены вонь сигарет, и вездесущий, острый, колющий запах гари. Гари от костров, которые мы, пацаны, тайком разводили за гаражами, сжигая куски деревянных паллетов, столов, обрывки дерматина с разбитых отечественных машин, да и просто мусор, который некому было вывезти. Этот запах был нашим паролем, знаком принадлежности к этому миру – миру конца эпохи, где все уже разрушилось и строилось заново на наших глазах.
Осень 1996 года пришла в город резко по воспоминаниям, буквально врезалась во Владивосток, как ржавый нож в рыбий бок. Город уже не был закрытым портом, но всё жесохранял свой уникальный облик и атмосферу. Здесь активно развивалась торговля, особенно импорт товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делало Владивосток важным торговым центром. В то же время, многие предприятия переживали трудности, связанные с переходом к новым условиям хозяйствования. Все сопутствующие декорации 90-х не обошли его мимо, как и всю страну.
Липкий, солоноватый ветер с Амурского залива гнал по улицам спального района пожухлую листву – обрывки газет «Труд» и «Боевое знамя», целлофановые пакеты-«майки», окурки красных «Прим». Я стоял на крыльце обшарпанного подъезда одного из сотен, что были в городе, домом-крейсеров по улице Невельского, втиснув окоченевшие руки в карманы повидавшей виды куртки «аляска», и смотрел вдаль – не в пространство, а в время. Туда, где все началось. До сих пор помнится тот воздух, который был густым, от обещаний и страхов, а будущее казалось бескрайним, как Тихий океан за сопкой.
Мне было 11, почти 12 лет. Васька. Василий Петров, сын Николая Петрова – слесаря 6-го разряда судоремонтного завода «Дальзавод», и Галины Петровой – медсестры поликлиники №3. Дома – послушный мальчик, «не хулиган», как говаривала бабка Аня с первого этажа. Дома я был больше ватным, тихим, старался не привлекать внимания, особенно когда отец приходил хмурый, с запахом «Столичной» и чем-то еще, горьким и чужим.
Я сидел за уроками, стараясь слиться с обоями, пока мама возилась у плиты.
– Вась, ну съешь хоть котлету. Опять как воробышек клевал. Расти не будешь, ветром сдует.
Я, не поднимая глаз от тарелки с пюре:
– Не хочется, мам. Уже сыт.
Дверь грохнула. Отец, тяжело ступая, скинул рюкзак с инструментом у порога.
– Сыт? – хмыкнул он, садясь и разминая плечи. – Там сил не надо, да? На заводе вот – там сытым надо быть. Там гайку сороковку сорвешь – и все, простой. Тогда и не ной, когда жрать нечего будет.