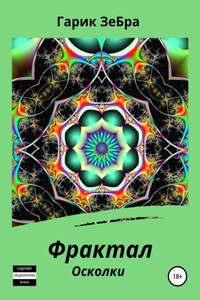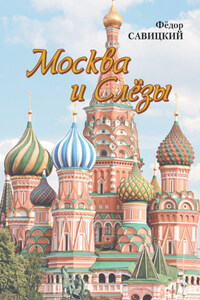12 августа 1952 года мой дед Давид Наумович Гофштейн был расстрелян. Эту дату я узнал спустя пятьдесят восемь лет после приведения приговора в исполнение.
Нет, в общем год смерти деда мне был известен. То, что дед погиб в заключении – тоже. Но вот детали, существенные детали, которые родители тщательно скрывали от нас с братом, всплыли случайно, а не в результате наших стараний.
В сорок восьмом послевоенный Киев представлял собой гигантскую территорию кирпичных развалин. Крещатик лежал в классических «кинематографических» руинах, где бесконечными зубчатыми обломками застыли фасады, за которыми зияла пустота. Мы жили на Ленина, 68, в так называемом «доме писателей», в квартире деда на первом этаже. Напротив нас, на углу, торчали останки трехэтажного дома, на низких подоконниках выгоревших окон которого часто сидели цыгане. Каких-то особых лишений в те годы я не испытывал, наверное, потому, что просто не понимал, что такое лишения. Есть, правда, постоянно хотелось, но это я тоже считал заурядным проявлением бытия. Люди, которые двигались перед раскрытым окном, тоже вроде бы ничего особенного собой не представляли.
Однажды к остановке, которая была хорошо видна из окна, снизу от Крещатика подъехал тесный довоенный троллейбус. Я хорошо видел, как в кабине водителя внезапно полыхнуло голубое пламя. Видимо, загорелся контроллер. Но реакция людей, которые толпились в салоне, оказалась для меня неожиданной и пугающей: вдребезги разлетелись стекла и сорвались с петель двери! Люди выпадали из окон прямо на асфальт, крича и давя друг друга. Те, кому удалось устоять на ногах, бросались бежать без оглядки, прикрывая голову руками… Многолетняя война только закончилась, и реакция на опасность у киевлян могла считаться уже генетической.
Дед, как я уже знал, любил приобретать всякие безделушки: зажигалки, латунные стаканчики, которые для красоты надевались на ножки стульев, курительные трубки. В общем, всякий замечательный хлам, которым были забиты ящики громоздкого комода и заставлен сам комод. Заговорщицки подмигнув, дед как-то пригласил меня в свой кабинет, в котором царил вечный полумрак от темных штор, и показал настоящий кинжал. Не знаю почему, но кинжал произвел на меня потрясающее впечатление! Он показался мне синеватым, страшно тяжелым и загадочным. В нем была заключена какая-то гипнотическая тайна холодного оружия. Не украшения, не ритуальной цацки, а именно орудия убийства.
Где-то с рук дед приобрел для меня игрушечный пистолет – немалую ценность на то время. Но пистолет не вызвал у меня мальчишеских эмоций. Он был черным, большим и неудобным. Отец повертел пистолет в руках и, стоя у раскрытого окна, направил его наружу. Какая-то тетка, стоящая у дома напротив, вдруг заметалась влево-вправо и резко юркнула за угол. Мне стало смешно, а отец положил пистолет на подоконник и вздохнул. Люди, пережившие войну и оккупацию, еще не привыкли к тому, что из окон не стреляют и троллейбусы не бомбят.
Я думаю, что еды тогда не хватало. Не помню. Есть хотелось всегда, и это чувство еще долгие годы казалось вполне естественным. Отец однажды с гордостью принес домой какие-то пряники и вроде бы настоящее масло. Самолично намазал парочку пряников этим маслом и подозвал меня, желая побаловать. Пряники отвратительно пахли горелым маргарином, а масло сверху – артиллерийской смазкой. Оба запаха совершенно знакомые и не вызывающие аппетит. Как ни пытался отец затолкать мне, неблагодарному, пряник в рот, я уворачивался, орал и таки довел отца до исступления. Он снял ремень и принялся лупить меня первый раз в моей безоблачной жизни. На крик примчался дед, благо мы жили в проходной комнате, вырвал у отца ремень и стал громко кричать. Я отревел свое и начал уважать деда как защитника и личность, которая бесспорно превосходила отца авторитетом.