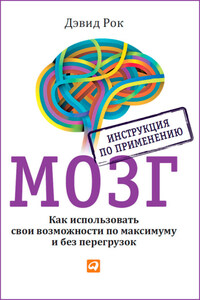Дорога была пуста, почти зыбка в утренней дымке, растянута вдоль северокитайских полей, где земля тёмная, как запёкшаяся кровь, и вязовые коряги, цепкие к жизни, держат на себе остатки зимы. Слева, на горизонте, угадывались земли торфяных покосов, где в межах вдруг вздрагивали серые тени фазановых стай, исчезая среди ивняков. Воздух хранил в себе горькую вонь прошлогодней соломы и немного дыма, время от времени приносимого ветром – запах печи, в которой сжигают мусор и сушат сладкий батат, проникая даже в замкнутый люк паланкина.
По этому пути, вытертому, уставшему от веков, ползла целая вереница чиновничьего кортежа. Конные слуги, надменные и хмурые, подгоняли лошадей на ухабах; носильщики паланкинов менялись через каждые три ли, утирая вспотевшие лбы грязными рукавами, но никто не замедлял шаг ради сочувствия. Каждый знал – дорога здесь не милость, а испытание, и каждый стон колесной оси, каждое переливание вёдер так знакомо напоминали тюремный двор при казни, где даже птицы молчат оглушённо. Чиновники среднего ранга сидели в облупившихся носилках, держали на коленях шёлковые свитки и с утренней строгостью пытались не глядеть по сторонам; даже они, привыкшие к закону громче родной колыбельной, чувствовали: сегодня воздух пуще обычного натянут тетивой охотничьего лука.
Над поверхностью тревожной земли по-прежнему летал металл страха и ожидания – шахматная тень смерти, не дающая покоя ни бедняку, ни знатному гостю. Стаи ворон, подступавшие к придорожным ямам, вяло разлетались при звуках колёс – как будто знали, когда в очередной раз сюда притянут связанных верёвками людей. У крайней межи виднелась тлеющая печь, из которой едва видимый дым извивался, напоминая струйку фимиама жертвы: вокруг неё сидели деревенские мальчишки, сосавшие замёрзшие пальцы. Никто из них не кричал: дети на Севере молчат с ранних лет, здесь это дань не страху – беспрекословному уважению к безмолвию мира.
Обоз огибал невидимые ямы, вздрагивал на колдобинах, а наглухо закрытый паланкин, устланный цветными шелками, нес в себе самого Ли Шу. Его двенадцать носильщиков, сгрудившись, шагали с одной выверенной скоростью, ни разу не встретившись глазами – так в тюремных лагерях не смотрят на надзирателя. Сам паланкин, обтянутый снаружи провощеной парусиной, мягко раскачивался, словно в нём не человек, а нагромождение вещей и воспоминаний. Внутри царил полумрак; шёлк на стенках бликовал змеиными переливами холодного золота и скучного перламутра, а ситец под подушкой пах чистотой и отдыхом, которым редко пользовались. Сквозь щели проникал запах конского пота, старого лака и чего-то ещё – беспокойного, вяжущего, словно сама земля, по которой двигался этот необычный караван, не хотела отпускать ни виновных, ни судей своих.
Ли Шу был подобен сломанному стеблю, согнутому временем: в его движениях была выстраданная выправка чиновника старой выучки, но в углах рта – затаённая резкость, жёсткость, будто вся жизнь его начерчена одним росчерком судебного пера. Чиновник был очень высок, плечи упрямо выдвинуты вперёд так, словно они сдерживают невидимый натиск ветра. Глаза – усталые, мутные: от долгих лет в пыльных канцеляриях и тусклом свете ламп он почти не различал лиц. Для других он оставался символом – золочёный журавль на шёлке, парадная головная шапка с заколкой, нефритовый перстень – но сам знал, что одежда только прикрывает и холод, и опустошённость.
Рядом шли вооружённые слуги, пахло сырой кожей, конским потом, кислой редькой, которую грызли ещё ночью, старыми благовониями и чем-то дымно-сырым. За спиной грузно шипел посол Неба – драгоценный перстень на руке чиновника ловил грязный свет, а паланкин смертельно давил привычным уютом – тем самым, что сковывает движения даже во сне. В других дворах, в той жизни, что Ли Шу с ненавистью отринул, горячий рис достаётся детям по праздникам, женщинам дозволено дремать в полуденное пекло; в мире чиновника даже воздух – по расписанию, даже чай – только в назначённый миг.