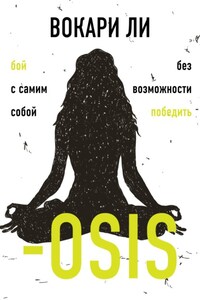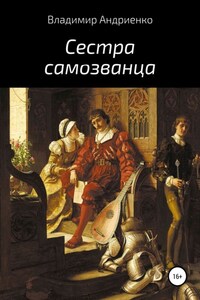Девочка, которая рано умерла
Ютящийся в углу коридора кабинет математики по праву считался самым неприятным местом в школе. Дети старались как можно дольше избегать его общества: переминались у дверей, стараясь не заглядывать внутрь, набивались в тесные кабинки туалетов и носились по коридорам, путаясь в ногах старшеклассников.
В кабинете не было ничего, помимо тухлого запаха, доносящегося от стен и пыльных шкафов. Выкрашенные в ядовито-зелёный стены сжимали воздух; от их кислотности сбегали даже парты, плотно прилипшие друг к другу ровными боками. Лишь изредка занозы цепляли нежность капроновых колгот. Старые книги за стеклянными стеллажами высовывали рёбра, прикладываясь к учительскому столу. Их ветхие кости хрустели, соприкасаясь с силой грузных рук.
Учитель математики, женщина лет сорока, незаслуженно прозванная «старушкой», носила массивные очки, которые то и дело сползали с её носа. Она поправляла их подушечкой пальца, линии которого, казалось, навечно забились меловой крошкой.
Из-под выпуклых стёкол выглядывали мелкие глазки, они бегали в поисках будущего отвечающего и не вызывали у ребят ничего, кроме отторжения, приправленного едва проскальзывающим сочувствием.
Ещё большее отвращение вызывала «странная девочка», сидевшая за первой партой. Ребята негласно дали ей такое нелепое прозвище; ни у кого не было тому никаких объяснений: девочка просто была чудачкой, носившей несуразные очки, окаймленные красным, и застиранный вязаный сарафан – его она, кажется, не снимала никогда. Пользуясь узорами её одежды, школьники могли изучать географию: белёсые подтеки удивительно напоминали оторвавшийся кусок Антарктиды. Даже учителя обращались к ней с долей брезгливости, цедя фамилию сквозь скученные зубы, будто та прогорклой ириской могла прилипнуть к языку и нёбу. Некоторые всё же относились к ней с пониманием: вероятно, видели в заляпанных пальцами очках что-то родное.
Девочка выписывала в толстую голубую тетрадь все впечатлившие её события. Например, совсем недавно она выделила отдельную колонку для случайно завалившейся под стол маковой булки. Когда девочка обводила слова цветной ручкой, на лице её играла загадочная улыбка.
Своими хрупкими пальцами, чуть подрагивающими от мельчайшего напряжения, она фанатично вырисовывала буквы. Почерк непослушно прыгал от строчки к строчке, паста размазывалась запястьем, оставляя на нём и окружающих предметах синеватые полосчатые кляксы. Девочке казалось, что чернила беспрекословно её слушаются.
Колонка «о завалявшейся булке» расположилась прямиком под главной заметкой недели: как-то вечером у её матери ужасно чесалось колено, из-за чего ночь оказалась неудобной и шумной. Девочка никак не могла заснуть и, разозлившись, коротко вписала черной пастой: «Проклятые комары». Рядом гордо расположился нарисованный простым карандашом комар. Ни его лица, ни мимики разглядеть было нельзя. Кривые лапки задевали текст, поэтому были беспощадно затёрты обрывком ластика. Чёрным девочка часто обозначала предчувствие смерти.
Несмотря на свои странности, она была добродушной и непонятливой, поэтому насмешки пропускала мимо ушей. Никто не слышал от неё ни единого грубого слова – это смирение производило множество слухов: сама того не ожидая, отвратительная девочка стала центральной фигурой отвратительного класса. Она ловко владела сознанием своих напыщенных сверстников, не прилагая к этому никаких усилий. Девочку мало заботила окружающая обстановка – мир заключился в всё более надувающейся тетради. Такая беспечность вызывала в обозлившихся детях ещё большую ненависть.
Девочка никому не позволяла прикоснуться к тетради, которую бережно выкладывала на угол стола, раз за разом сводя её контуры с контурами парты. Когда голубое пятно наконец занимало отведённую ему часть, она поднимала руки и всем телом вытягивалась вперёд – ни один любопытный нос не мог перейти воссозданное ограждение. Пальцы цеплялись за края стола, пошатывая его из стороны в сторону. Это сопровождалось скрипом, потрескиванием поднявшегося на дыбы линолеума и щёлканьем перекатывающихся по парте ручек.