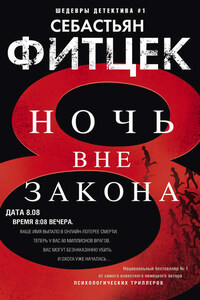Осколок
Намного сильнее, чем от застрявшего в голове осколка, Марк Лукас страдает от душевной боли из-за автомобильной аварии, виновником которой стал, потому что в ней погибла его жена и не рожденный ребенок. Марк обретает надежду вернуться к жизни, когда узнает о психиатрическом эксперименте, который мог бы избавить его от нестерпимых, мучительных воспоминаний. Но после первого визита в клинику с ним происходит нечто пугающе странное. Список контактов в телефоне оказывается пуст. Ключ от квартиры Марка больше не подходит к замку. На табличке обозначено чужое имя. А когда на его звонок дверь открывается изнутри, Марк попадает в свой самый жуткий кошмар…
| Жанры: | Триллеры, Зарубежные детективы |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2020 |
Очень запутанная, какая-то сюрреалистическая история, на протяжении которой я не могла понять, что же происходит на самом деле, а что — это плод фантазии героя. Ведь Марк решился на эксперимент с памятью, а мозг это такая сложная и до конца неизведанная субстанция.
Марк Лукас во время автомобильной аварии потерял жену и не родившегося ребенка и теперь чувство вины съедает, поэтому увидев объявление об участии в экспериментальном проекте, который позволит забыть эти трагические события, соглашается на предложение доктора поучаствовать в нем. И вот с этого момента его жизнь превращается в кошмар. Марк, как, впрочем, и я, уже не понимает, где реальность, а где нет иллюзия. Он знакомится с Эммой, которая утверждает, что тоже участвовала в проекте и их жизни подвергается опасности.
Одним словом автор лихо закрутил сюжет. До самого конца непонятно, что тут правда, а что нет, кому можно верить, а кому нет. Спираль головоломки закручивается все сильней и сильней, пока в конце не наступает развязка. Скажу честно, я строила разные гипотезы и версии, но автор меня удивил и это мягко сказано. Уж чего-чего, но такого финала я не ожидала. Сюжет вышел несколько фантасмагорический и сюрреалистический, динамичный и увлекательный, но осталось ощущение какой-то недосказанности и недоработанности. Но одно было верно — скучать тут не придется. Оценка 4
Отличная книга, как и все произведения автора! Все его книги так ярко и объемно описаны, как будто ты сам участвуешь в них. Спасибо большое! Оторваться очень трудно.