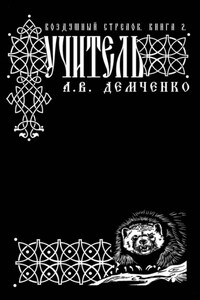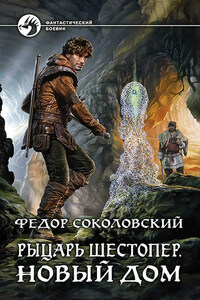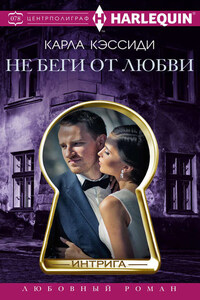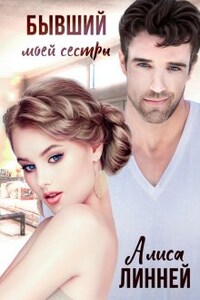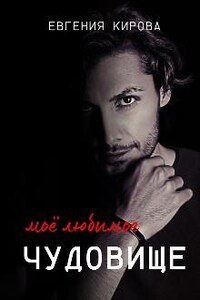Где-то в центральной Германии 1477 год от Р. X.
Солнце, неумолимо спускающееся к линии горизонта, щедро делилось оставшимися от дня красками – так незадачливый мясник стремится избавиться от порядком «заблагоухавшего» за день товара до закрытия торговых рядов. Своё он вроде уже отбил, да и то, что осталось, даже в свежем виде было не особо привлекательным, а завтра на тухлятину польстятся разве что собаки – и то не сожрать, а извалять. Вот и надрывается болезный, цепляясь к редким вечерним посетителям и пуще прежнего нахваливая продаваемое: смотри, мол, какая вкуснятина, а отдаю за два медяка. Эй, эй, за один! Да посмотри же!
Лес, о сизую стену которого словно спотыкалась петляющая по лугам дорога, вёл себя в точности так же, как горожанин, спешащий домой через торговую площадь: презрительно отворачивался и морщился. Лучи светила, окрасившие тучные травы в жёлтое и красное, вязли и рассеивались в густом сумраке между тяжёлыми ветвями вековых елей. Под пологом из длинных зелёных игл и ещё более длинных лишайниковых «бород» уже царила ночь, а кое-где колыхались медленно ползущие без всякого ветра первые тенёта тумана. Недоброе место. Не только внешним видом недоброе, отчего и стоят некошеными прекрасные луга и ни одного селения на добрых три мили окрест. Местные, из тех, кто регулярно был вынужден пользоваться огибающей чащобу дорогой, старались миновать урочище в середине дня, и другим путникам то же советовали. Слушали, правда, не все…
Стараясь не выбираться с обочины в пыльное месиво меж выбитых тележными колёсами колей, по тракту в сторону леса неторопливо шагали трое. Это были смиренные монахи – по крайней мере, издалека взгляд прежде всего цеплялся за коричневые дорожные сутаны, да и сам способ передвижения, на своих двоих, намекал на невысокое положение в социальной иерархии. Но если присмотреться, начинали появляться вопросы.
Только один из отринувших мирское во имя Христа мог сойти за простого инока: ряса, простой крест, лысина-тонзура и сандалии. Возраста божий человек был явно немалого: уцелевшие волосы густо украшала седина, морщины придавали его и так благодушному лицу какое-то совсем уж умиротворённое выражение, а выцветшие, когда-то карие глаза смотрели на мир с подобающим смирением. Единственное, что могло насторожить случайного свидетеля, – та лёгкость, с которой монах задавал темп маленькому отряду, иные из молодых позавидовали бы.
Двое других путников поддерживать образ скромных агнцев Божьих дальше нацепленной рясы даже не пытались: траву безжалостно мяли добротные сапоги, у одного, высокого светловолосого и голубоглазого типа, вокруг пояса была обёрнута грубая массивная цепь с веригами, подозрительно похожими на грузы-концевики боевого кистеня, второй, хоть оружия на виду и не носил, при каждом шаге издавал звук, напоминающий звон колец кольчужной рубашки, образ довершал капюшон, надвинутый на самые глаза и полностью затеняющий лицо. В общем, та ещё компания: любой одинокий путник обойдёт и глаза будет старательно отводить – мало ли что, увидишь лишнее – и поминай как звали…
– Пся крев! – Рослый блондин оступился, запнувшись о скрытый в траве камень. Выругавшись, он поймал насмешливый взгляд обернувшегося идущего впереди и насупился.
– Брат Андрэ, брат Андрэ… Епитимья по тебе горючими слезами плачет, – ласково пожурил его пожилой предводитель маленького отряда. – Когда же ты научишься сдержанности?
– Когда все твари разом провалятся в ад! – пробурчал себе под нос поляк, но был услышан.
– Не за тем ли мы идём сейчас, сын мой?