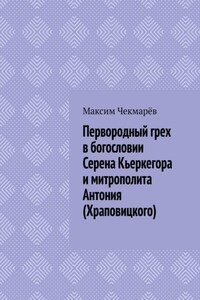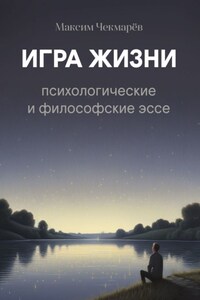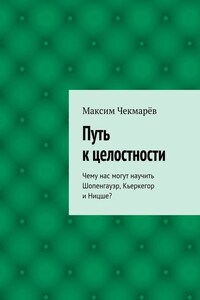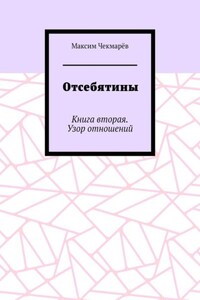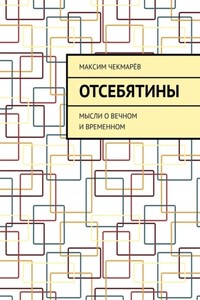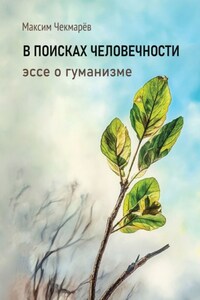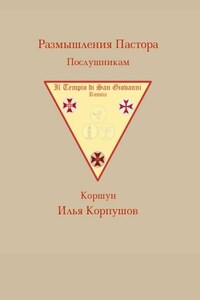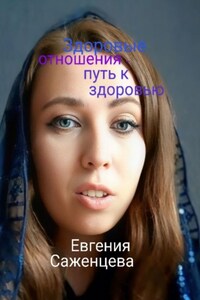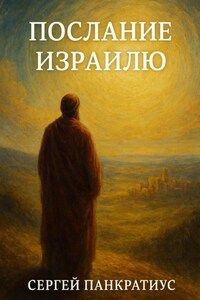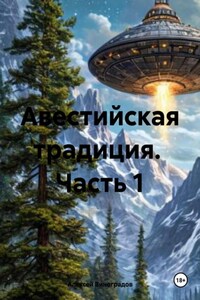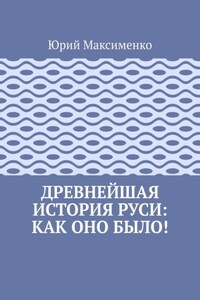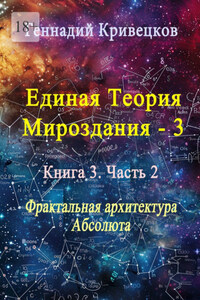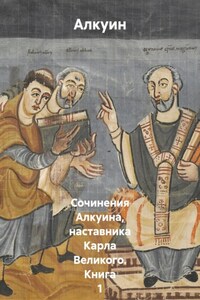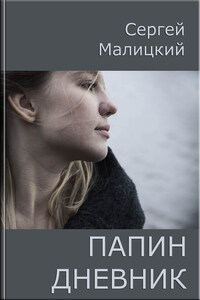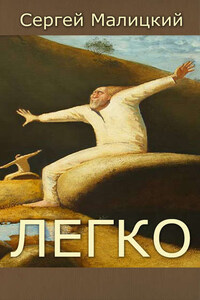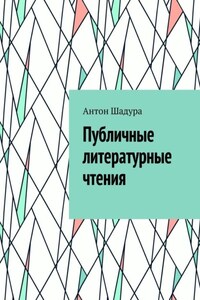Учение о спасении – одна из фундаментальных идей христианства. К нему примыкает понятие первородного греха, стремящееся описать текущее состояние человека, вошедшего в противоречие с замыслом Бога. Учитывая её непосредственную связь с верой в воплощение, крестную смерть и воскресение Иисуса Христа, оно становится центральным событием вероучения, обращенным непосредственно к каждому человеку. Богословские поиски первого тысячелетия христианства смогли обнаружить подходящий язык для формулировки догматов о спасении, а также связанных с ним учениях о двух волях и природах в личности Христа.
Но, начиная с XIX века, христианство сталкивается со сложностями передачи своих основных положений. XIX век стал временем массовой смены парадигмы мышления европейского общества о природе мира и человека. Теоцентрическая модель Средневековья меняется на антропоцентрическую и социоцентрическую, происходит «расколдовывание мира», которое было констатировано немецким поэтом Фридрихом Шиллером, а затем философом Максом Вебером. Наступает эпоха секулярного мира [38].
Секулярный мир требует новых подходов к освещению Церковью и каждым конкретным христианином ключевых христианских догматов. Это больше не диалог с верующим человеком, существование Бога для которого – уже свершившийся факт, а соприкосновение с личностью, которая сначала обнаруживает себя в мире, а потом включается в духовный поиск. Этот поиск преимущественно организован вокруг попыток объяснить мир и человека из самого себя без выхода к трансцендентным понятиям. Поэтому богословский диалог требует особого акцента на самом факте соприкосновения с предельными вопросами бытия, онтологическими разрывами, через которые становится видимым необходимость включения духовной реальности в картину мира [16].
Одним из наиболее сложных христианских догматов, требующих объяснения для секулярного человека, является учение о первородном грехе. Являясь ключевым стартовым положением сотериологии, а также роли Боговоплощения, он не может быть обойдён. Он тесно связан с пониманием сущности человека, созданного по образу и подобию Творца, но, одновременно, обладающего несовершенной, а, точнее, незавершённой природой.
Таким образом, XIX век начинает требовать антропологического поворота в диалоге с секулярным человеком, а, порой, и с христианином, интерпретирующим свою веру формально. Становятся необходимыми объяснения от индивидуального бытия [20]. Эти попытки предпринимаются сначала на христианском Западе, а затем и на Востоке. Такой порядок обусловлен распространением секулярного сознания. Сначала оно устанавливается в Западной Европе, а потом на территории Православных Церквей. Показательными примерами являются учение о переводном грехе датского религиозного философа Серена Кьеркегора и понимание догмата об Искуплении митрополита Антония (Храповицкого). Каждый из них предпринимает попытку отойти от христианской ортодоксии, чтобы встать на один уровень с секулярным собеседником, а затем вернуться к базовым истинам христианства.
Стоит подчеркнуть, что наиболее уязвимым оказывается обыденное религиозное сознание. Оно проще всего соединяется с жизненным укладом: экономическим типом производства материальных ценностей, политической иерархией, культурой повседневности. Вместо обожения человека сакрализуется общепринятый порядок. Этот путь описан Георгом Гегелем в «Философии религии» [14]. Гегель на примере мировых религий показывает перерождение попыток восстановления связи человека и Божественного (re-ligare) в культовую систему. Для немецкого философа такой путь призван показать значимость философии, которая принимает эстафету от религии в понимании мира, с чем теология согласиться не может.