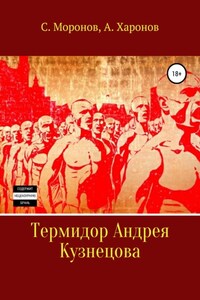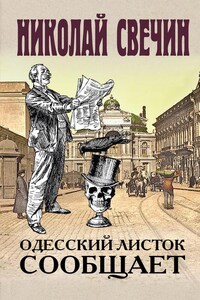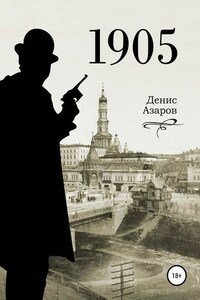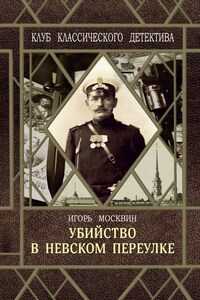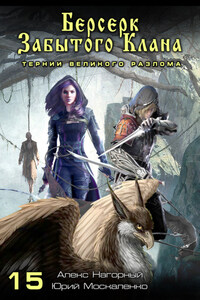Грозовая туча, пропитанная слезами переживаний и страхов родителей за свою старшую дочь, разразилась градом сердитых упреков и обвинений. Завидев вернувшуюся за полночь Барбару, ее раскрасневшееся, с испуганными, но счастливыми глазами лицо, пан Фредерик «спустил собак». Было сказано все, чем кипело истерзанное сердце отца.
– Глядите-ка, выросла ясновельможная пани! Бесстыжая фуфыра! Родителей в гроб возжелала загнать? Молчи, дрянь! Я повиляю тебе хвостом перед шпорами! Ишь, выискалась принцесса! Побойся Бога! Ты что же, очернить фамилию нашу решила на весь белый свет? Прочь с глаз моих! Видеть тебя не желаю! – Отец, весь на нервах, кое-как сдерживал тяжелую тряску рук, потом негодующе топнул ногой и в самом дурном расположении духа покинул прихожую.
– Довольно на сегодня! – со скорбным надрывом, точно разбитое камнем стекло, прозвучал в общем молчании голос матери. У Баси задрожали на глазах слезы, голубая жилка явственнее забилась на виске. «Уж лучше бы мамочка на меня накричала… или приказала выпороть розгами…»
– Мамочка, миленькая, дорогая, родная! Я не хотела… не хотела… – молитвенно сложив на груди руки, бросилась к матери дочь, но пани Мария сердито, без капли сочувствия обрубила ее порыв.
– Тебе нет оправданий! Ка-кая низость… Какая вопиющая разнузданность нравов! Кошмар! Не-ет, не думала, не гадала, что доживу до такого позорища… И это моя дочь! Матка Боска, какой скверный пример ты подаешь младшей сестре – Агнешке. О, я не знаю, что с тобой сделаю! Где ты была? Впрочем, довольно! И слышать не хочу! Все завтра! У меня дико раскалывается голова… А теперь изволь спать, вот тебе свеча. Ступай.
Напуганная переполохом в доме, прислуга суетливо начала тушить лампы.
Бася молча взяла подсвечник, и, когда поравнялась со своей гувернанткой, та что-то прошептала ей ядовитое по-латыни, а потом, провожая воспитанницу до дверей спальни, злорадно прожурчала:
– Я знаю, с кем ты была, паршивка… И знаю, какие непотребные мысли витают в твоей ветреной голове… Ты, негодница, подвела меня, но не думай, что это так легко сойдет тебе с рук… Я все доложу пану Снежинскому… И знай: Варшавы тебе не видать! Это решение пана Фредерика. Ты останешься дозревать на моей грядке, запертая на ключ… и у нас будет предостаточно времени проштудировать все заповеди Иисуса. Так что теперь тебе надлежит быть паинькой, накрыться с головой одеялом и не высовываться. Вы уяснили сказанное? – В глазах наставницы разливалось торжество. – Не слышу вас?
– Да, пани Ядвига, – всхлипнула Бася.
– Очень хорошо. А теперь умойтесь. Боженка весь вечер подогревала воду, ожидая вас. И смените это грязное рубище. Фи!
* * *
Отогревшись в горячей воде, с потемневшими кончиками намокших волос она отошла от туалетного столика. На предложение доброй Боженки испить чаю с овсяным печеньем она отказалась.
Душистая, в прозрачной ночной рубахе на голое тело, она на цыпочках торопливо прошла в спальню. Комната была освещена спокойным, без теней, лунным светом.
Агнешка, уткнувшись высоким лбом в пухлую белизну подушки, мирно посапывала носом. Ее жиденькие светло-русые волосы скошенной травкой рассыпались по обнаженному смуглому плечику, по едва набухшей девичьей грудке.
Барбара неслышно подошла к кровати сестры, поправила свалившийся набок край одеяла. Прислушалась. Скандал, как отгремевший шторм, постепенно стихал; слышались отдаленные отголоски отходившей мамочки, сердито шлепали по лиственничному полу домашние туфли отца. Но самое страшное было уже позади.
В мае печи прекращали топить, и по ночам было прохладно. Барбара закрыла ставни и забралась на кровать. Ежась от холода, она долго сидела, не в силах заснуть, охваченная отчаянием, и наивно мечтала: «Ах, если бы меня родители выгнали из дому».