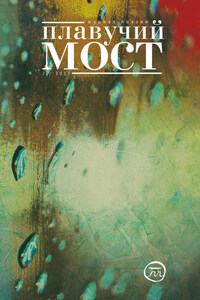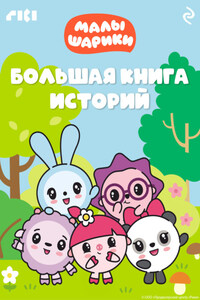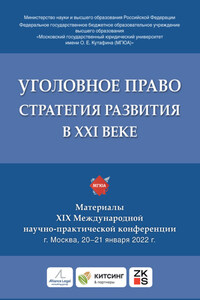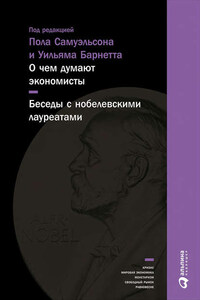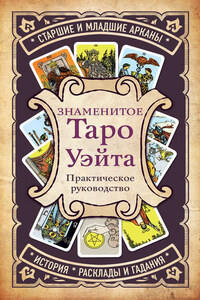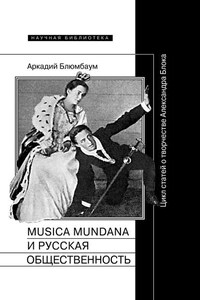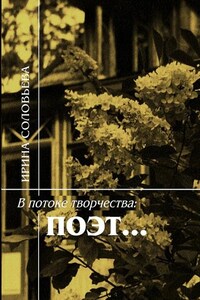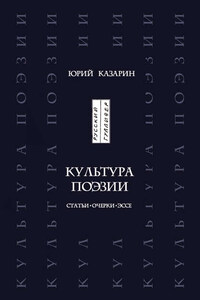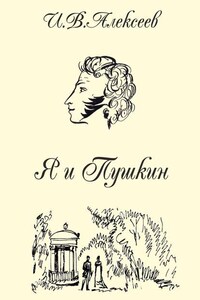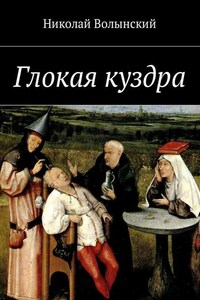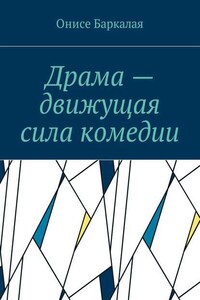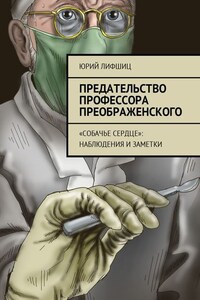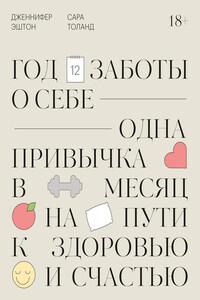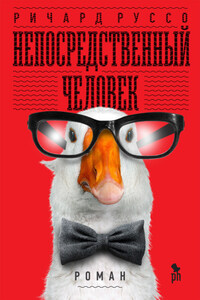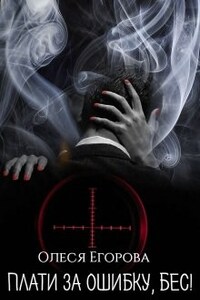Евгений Витковский
Поэтический перевод как искусство, за которое не платят
Для русской переводной поэзии Серебряный век оказался золотым. До конца XIX века знакомство российского читателя с мировой литературой ограничивалось десятком поэтов, это были Гете, Шиллер, Гейне, Беранже, Байрон, Мицкевич, это – почти все. Их переводили много, но нам уже трудно поверить, что можно знать Байрона и не знать даже по имени ни Шелли ни Китса, что Петрарка у нас был известен едва десятком сонетов, испанский язык был какой-то тропической экзотикой, Америка просто не существовала. Между тем интеграция в мировую культуру есть залог нашей цивилизации. Только культура и отличает нас от муравьев в муравейнике, поэзия в том числе – она возникает раньше всех других видов искусства.
Знакомство русского человека с мировой литературой в 1730–1880 годах по большей части ограничивалось чтением в оригинале, но доступных оригиналов было не так уж много, да и мода вредила изрядно. Читали Горация и Гете, но уже Сервантеса читали во французских переводах. В «Египетских ночах» Пушкина итальянский импровизатор, приехав в Петербург, лишь с трудом может собрать аудиторию: слишком немногие знают итальянский язык. За образом импровизатора прозрачно угадывается Адам Мицкевич, а на каком языке разговаривали друг с другом Мицкевич и Пушкин? Правильно, на французском, хотя Мицкевич определенно знал русский, а Пушкин мог понять польский. Теперь бы они говорили по-английски, впрочем, о поэзии могли бы и по-русски: на английский (тем более на французский) стихи стихами нынче все меньше переводят.
Нам, в эпоху тотальной англофикации мира, даже читать об этом странно. Ведь всего-то полтора столетия назад русские маменьки экономили, не нанимая своим деткам преподавательниц английского – нужен был французский. Хороши были б теперь такие маменьки и такие детки… Хотя ведь были и раньше мировые языки. Взять хотя бы шумерский и латынь, – к тому же последняя остается таковым мировым языком отчасти и теперь. Видимо, дальше будет то же самое, и нельзя гадать – какое наречие вынесет на гребень глобализации.
Переворот семнадцатого года сперва сказался на качестве бумаги, лишь потом – на всем прочем, в том числе и на том, что поэтов-переводчиков стали физически уничтожать или принуждать к эмиграции. Но в 30-е годы произошла перемена: в сугубо политических целях была создана легенда о великой многонациональной, и, заметим, единой литературе народов СССР.
С начала 1930-х по 1970-е не было даже просветов. Разве что случайные. Пока не возникла необходимость в «престижной серии» – в БВЛ. Никто тогда и не думал, что для цензуры и вообще для советской власти это было начало конца. Но к 1990 году государственные дотации на перевод прекратились, а деньги, скопившиеся у поэтов переводчиков прежних лет, съела инфляция. За стихи же нигде не платят, разве что грант дадут, а на что дают грант? Скажем, на изучение такой важной темы в поэзии – «Иисус Христос как феминист». Или «поэты-самоубийцы». Еще бывает, что богатый западный поэт хочет, чтоб его перевели. Переводят, но этих книг никто не читает.