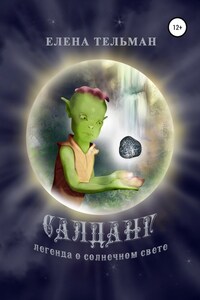За тусклыми, немытыми стёклами вагона проносятся дикие, заброшенные, и всё же, величественные пейзажи, казалось, безграничной тайги. Создавая контраст между небом и землёй, чья-то сильная рука вселенского художника мощно, одним махом, на ярко-розовом фоне очертила границу между чёрными сопками и заходящим куда-то за горизонт, зимним холодным солнцем. Утонувшие в холодных, тёмных сумерках деревья, беспорядочно гнутся под напором обезумевшего февральского ветра. Столетние же кедры и сосны, как мудрые предки, повидавшие немало на своём веку, стоят монументально, лишь изредка, снисходительно дают потрепать свои вечно зелёные мохнатые ветви бушующему хулигану – ветру.
Из щелей старого обветшалого вагонного окна сквозит морозом. Однако стужа проникает в купе не только из него. Безжалостный холод находит лазейки всюду. Старый состав пассажирского поезда знавал времена и погоды куда серьёзнее. Об этом кричат закопчённые панели вагонов, треснутые стёкла окон с окаменевшей между рам, грязью. Старый поезд пляшет и трясётся так, что невозможно пройти по коридору вагона, – пассажиров бросает из стороны в сторону. Холод, грязь, тоска и тревога…
Она достаёт с верхней полки грубое синее одеяло, пахнущее чем-то затхлым, прелым, и подтыкает окно. Затем бросает озабоченный взгляд на соседнюю нижнюю полку, где безмятежно, укутанный пуховым платком и, укрытый всем, чем только ей удалось придумать: своей дорогой шубкой, шарфом, одеялами, – спит годовалый сынишка. Мельком взглядывает в окно, зябко передёрнув плечами, мостится рядом с ребёнком, осторожно отодвинув его ближе к стене. В любую минуту сюда, в это купе могут войти пассажиры. А у неё – лишь одно место, один билет. Хорошо, удалось наскрести хотя бы на один. Один на двоих. На неё – бывшую подругу, бывшую жену. Бывшую. И на него, – единственного, самого дорого на всём свете существа, – сына, что крепко спит. Для него она не бывшая. Для него, как раз она самая настоящая, любящая и заботливая. Разглядывая ребёнка, чуть прижимает его своим телом, но так, чтобы тому было тепло и безопасно. Она немного подтягивается вверх. Опять очень осторожно, так, чтобы её голова могла прикрыть его, светлую головку, закрыв от окна. Тревожно и нежно смотрит на ребёнка. Тот сладко причмокивает во сне розовыми, пухлыми губками. Ну, вот, милый, всё позади! Только ты, да я! И никто нам не нужен, сами справимся! Женщина прикрывает веки. «Что? Что дальше? Деньги! – Трогает мочку уха. – Заложу серьги – раз, обручальное кольцо – так. Что ещё? Ах, да, золотые часики, ещё цепочка. Дать телеграмму подруге?! Какой подруге? Что это я? Нет, не станет он искать её у подруг! Господи! Да никто не будет искать, никто не хватится! Нет у неё больше подруг. Все они на его стороне! Лучшая подруга – любовница мужа! Банально, стыдно. Тяжело до невозможности! Сердце рвётся на части. Обидно и мерзко не только за него, которого любила больше всех на свете, бесконечно доверяла, – мерзко за себя! Слепая, глупая курица! Вот, кто ты есть! Курица?
Ну, это мы ещё посмотрим! Ей казалось в эту минуту, – многие с облегчением вздохнут, что нет её больше в том городе. Растворилась. Он, этот город остался где-то там, не так ещё далеко, но всё же, – позади. А прокопчённый поезд несётся, сейчас так кажется, всё равно, – куда, стремительно сокращая или наоборот, увеличивая дистанцию между прежней и новой жизнью. Ночной состав мчится по знакомой ему колее, лязгая и посвистывая, будто от холода, сквозь стылую зимнюю мглу. Его дальний путь, как в былые времена, сопровождает верная прислуга, – сумасшедшая какофония, сотканная из дружного стука, заплывших мазутом, колёс, грохота и скрежета вагонов, давно отработавших свой срок, повидавших всякое на своём веку.