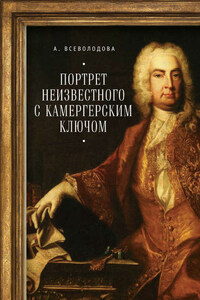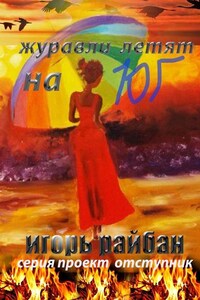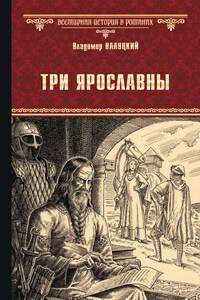Лет за тридцать до «французского года» в нескольких верстах к югу от Царицына на берегу реки, ещё можно было видеть ветхий деревянный дом, старость которого никто не хотел, или не имел средств покоить. Скоро он был сломан. В месте, на котором находился фундамент его, вырыт был грот, называвшийся «Le berceau de mon pere»[1], а кругом раскинулся парк, долженствующий обрамлять стены нового каменного жилья. Хозяин его, сын прежнего владельца усадьбы, капрала Фрола Кущина, павшего в битве при реке Ларге, любил прохаживаться тут, или делаться гостем грота, и, сиживая на мху, покрывающем каменные ступени его, уноситься мыслями Бог весть куда. Если бы мы могли заглянуть в них, то увидели бы ту же равнину и ту же реку, что и сейчас расстилаются перед его глазами, но заметенные снегом. Дремлющая в лучах февральского заката деревенька, дымится стелящимися по крышам клубами пара – дело к ростепели. Господский дом на взгорке ничем почти не отличен от изб, разве крыт затейливей. От него, по расчищенной от снега дорожке, идут двое – брат и сестра – Фрол и Наталия, или, как она прозывается между домашними, Налия, и даже еще проще – Налли.
Фрол глядится настоящим богатырем, высок, широк в кости, боек в лице и движениях. Если бы мог он поделиться с сестрой своей кипучей кровью, ярким румянцем и всею крепостью, он отдал бы ей часть сих достоинств, которых стало бы у него еще на десятерых. Но это невозможно, и несмотря на привязанность брата, Налли, хотя никто не мог отнять у неё право именоваться красавицей, с первых глаз кажется таковою только на морозе. В другое время лицо её бледно и ничуть не напоминает о Флоре.
Не личит оно также ни Венере, ни Психее, ибо для того в нём недостаёт девичьего лукавства, или невинного простодушия. Напротив, в свои осьмнадцать лет, оно уже как будто несёт печать пережитого страдания, подвига, мрачной тайны. Или это только предчувствие их? Одно очевидно – никакою жительницей Олимпа не могла бы Налли представиться на машкараде, но в образе Лукреции, Юдифи или Орлеанской девы преуспела бы быть похваляемою. Хотя в лице её нет ничего мужественного, она весьма походит на отца своего. В бою под Данцигом в 1734 году, посреди дерзновенных подвигов своих, получил он русское дворянство и смертельную рану. Живым ещё, заботами своего денщика и, пленённого им француза де Форса, привезён был в родной дом, где скоро умер.
На руках вдовы – Елизаветы Алексеевны Кущиной – осталось двое детей и девять дворов, пожалованной деревеньки. Де Форс был оставлен в доме для обучения Фрола «всем наукам», и сперва очень тосковал по своему отечеству. Однако, когда ученику его сравнялось 16 лет (он был двумя годами младше сестры), и де Форсу представилась возможность покинуть семейство Кущиных, он выразил желание остаться на месте своём, говоря, что совесть не позволяет ему бросить неконченым труд.
Слова эти относились к успехам Фрола и были совершенно справедливы, ибо в отличии от своей сестры, он не проявлял «ко всем наукам» ни малейшего интереса. Повествования о сципионовых войнах, французской грамматике или действиях с дробями производили в нём равную неприязнь. Заметя, что сестра с любопытством, а иногда, и с увлечением, слушает де Форса, лукавый ученик убедил её исполнять за него всю письменную часть урока, с тем чтобы похваляться им перед родительницей и избегнуть несносного труда. Молчание о сем обстоятельстве де Форса было куплено путем молений со стороны обоих его учеников, и кроме того, угрозой, со стороны Фрола, сделать жизнь учителя в доме несносною. Обязанность до самой старости подписываться «недорослем Кущиным» гораздо менее пугала Фрола, чем предстоящая служба, и он ежедневно клал по десять поклонов перед образом, моля провидение избавить его оной беды. Между тем, шаги её всё приближались, и нынешнею весною положено было хлопотать перед старым начальником героя Кущина, о зачислении сына его, столь разнившегося с отцом в честолюбии, в полк.