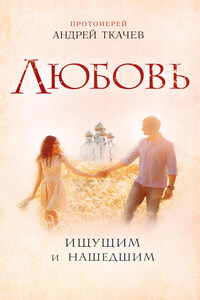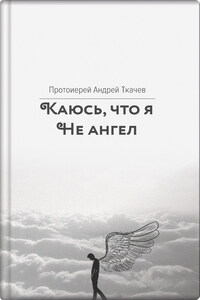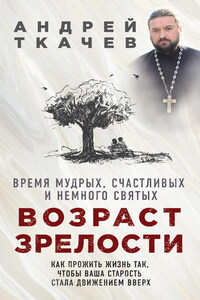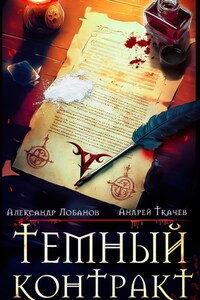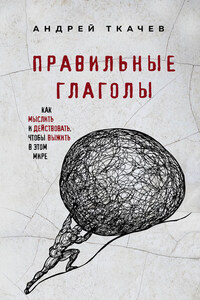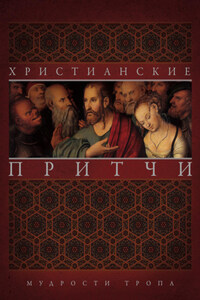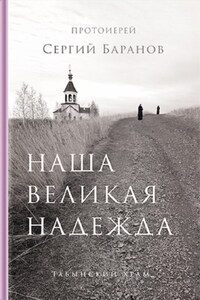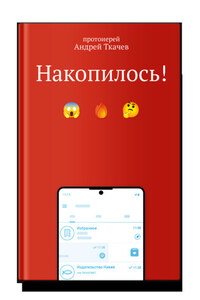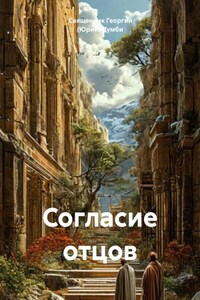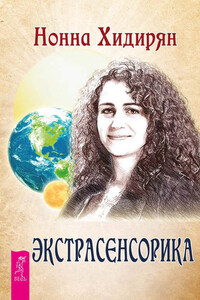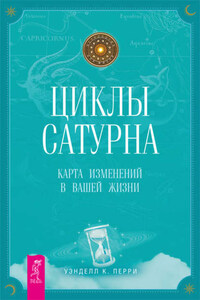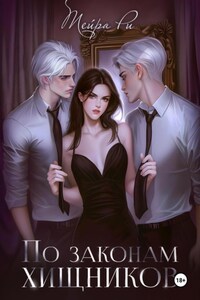Предисловие. К молодежи и не только
В отношении иностранного языка есть два понятия: изучать и осваивать. Никто из нас, родившихся в русскоязычной среде, не учил русский язык. Мы все освоили его в детстве, то есть он был передан нам через саму жизнь и общение. Некоторые потом вникали в детали грамматики, некоторые нет, но все мы говорим по-русски.
А вот человек, воспитанный в другой языковой среде, если захочет выучить русский, должен будет действительно учить его. Там уже будет необходимо учить грамматику и лексику, запоминать что-то и делать упражнения. Вот такие же вещи, очевидно, существуют и в отношении духовной традиции, ведь либо она есть, либо ее нет. Если она есть, тогда ты осваиваешь на практике с детства все то, что нужно.
Трудолюбие, покаяние, уважение к старшим, смирение, терпение, мысли о смерти, надежда на Бога и так далее. Все это передается тебе естественным образом через саму жизнь. А если в детстве всего этого нет, но есть желание иметь это, тогда ты начинаешь это изучать. Получается, мы сегодня изучаем православие, как иностранцы изучают русский язык.
Наша попытка приникнуть к собственным корням похожа на попытку англичанина или японца выучить русский язык. Никто из них не живет в этой среде, но они изучают ее и пытаются конструировать собственную жизнь на основании изученного, а не транслируемого. Я думаю, что в контексте христианства это, конечно, колоссально осложняет нам дело и рождает очень много опасностей.
Например, протестанты не верили в Церковь как в реальность, то есть Церковь как реальность их отталкивала от себя, и они конфликтовали с ней. Тогда они вознамерились на основании Священного Писания реконструировать Церковь святых апостолов. Это была попытка создать заново Церковь на основании библейских чертежей, попытка неудачная с точки зрения жизни духовной.
Наличие, например, духовного отца или просто верующего отца дает человеку неизмеримо больше, чем множество прочитанных книг. Церковь – это опыт, в который нужно войти. Существует опасность, что православие будет заключаться в хорошо переплетенных книжках с разными корешками и будет удобно стоять на полке.
А жизнь будет диктовать свои ценности, и на каждом шагу будет возникать конфликт. И придется либо отказываться от православия, стоящего на полке, как от безжизненной схемы, либо сочетать антихристианский мир с таким православием, как бы подделывая Учение под окружающий мир.
Но добрым фактом является то, что Церковь Соборная, Апостольская никуда не исчезла, она существует. Свой путь к ней может протоптать каждый человек, а тот мир, в котором мы живем, является пустыней лишь отчасти. То есть это пустыня с оазисами, и до них можно дойти, чтобы ожить и освежиться.
Так я вижу общую проблематику нашу. Это множество нравственных и умственных усилий в попытке воссоздать огромные масштабы того, что однажды было катастрофически утрачено.
Еще одна особенность этого разговора заключается в том, что размылось понятие молодежи. То есть к кому мы обращаемся, когда мы говорим о молодежи? Есть молодежь биологическая, а есть молодежь психологическая. Психологически какой-нибудь 50-летний человек, например, говорит: я себя чувствую молодым. Он лелеет какие-то мечты, например жениться и родить впервые ребенка. Инфантилизм затягивает время детства. Люди в 30 могут вести себя как дети. Старики не хотят стареть. Люди панически упираются в эту старость и не пускают ее к себе. И поэтому к кому мы будем обращаться в этой книге? Скорее ко всем вообще, чем только к молодежи.
Был такой трагичный случай в какой-то германской земле. Совершенно древняя старушка, помещенная в дом престарелых, сбежала оттуда. Когда спросили, почему бежала, она ответила: а что мне там делать с этими стариками? То есть она психологически себя не считала старушкой.