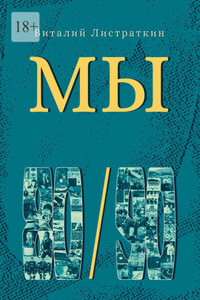Говоря о трансформациях в социальных науках, необходимо всегда иметь в виду как минимум два пласта – саму социальную реальность и модель ее репрезентации в академическом дискурсе. В идеале оба измерения когерентны друг другу: устоявшаяся социальная реальность ухватывается и описывается через устоявшуюся модель ее представления, то есть имеющиеся в нашем распоряжении хорошо проработанные понятия точно схватывают глубоко укорененные стабильные социально-культурные формы. Такая когерентность – залог «эпистемологического оптимизма», нашей уверенности в том, что научные исследования дают надежные и достоверные сведения об окружающей действительности. Однако на смену оптимизму неизбежно приходит «эпистемологический пессимизм». Дело в том, что эта когерентность носит всегда лишь временный характер: по мере неизбежных порой стремительных трансформаций социальной реальности последняя неминуемо приходит к рассогласованию с той моделью репрезентации, которая до этого прекрасно ее описывала. В этот момент кризиса социальная наука начинает нуждаться в изменении своего языка, своей оптики, в движении к новой модели репрезентации, адекватной новой кристаллизирующейся действительности.
Размышляя об истоках социальных наук, Питер Вагнер выводит их из необходимости сориентироваться в новой хаотической действительности, когда прежние – религиозные и метафизические основания – уже более не могли служить надежными ориентирами для человека. Изначально этот импульс «поиска надежного основания» (quest for certainty), характерный для всего модерна как такового, проявил себя в философии[1]: в период Реформации и религиозных войн остро встала задача поиска «альтернативных оснований достоверности после того, как осознание отсутствия иных – религиозных и метафизических – фундаментов стало все более повсеместным»[2]. Этот же поиск был продолжен социальными науками в конце XIX в. – первой половине XX в., когда постепенно через хаос Первой мировой войны и русских революций стало выкристаллизовываться то, что Вагнер называет организованной современностью (organized modernity)[3]. Неразбериха рождала запрос на обретение новых достоверных оснований, которые социальная наука и пыталась предоставить. В результате этого «поиска надежного основания» и происходит появление «методологически, онтологически и эпистемологически зрелых»[4] социальных наук. Большая часть усилий в модерной социальной науке
была направлена на конструирование категорий и способов их измерения, которое бы позволило иметь дело с людьми как четко определенными группами с предзаданными интересами и стремлениями в противовес большому количеству разнонаправленных импульсов[5].
Этот «поиск надежных оснований» увенчался успехом и стал поводом для «эпистемологического оптимизма» 1960-х гг. Данный оптимизм
был основан на уверенности в том, что были обнаружены некоторые необходимые эпистемологические основания: тот язык, который был выработан, действительно описывал социальные явления, «вещи» так, как они конструировались социальными науками, действительно «удерживали себя воедино»[6].
Успех социальных наук стал возможен лишь благодаря тому, что сама социальная реальность в тот момент кристаллизовалась в устойчивой форме организованной современности. Социальные науки могли рассматриваться «как методологически и эпистемологически надежные, способные поставлять блага и объективное знание», а общество, в свою очередь, как «некоторым образом упорядоченное, как характеризующееся наличием фиксированных, вычленяемых сущностей»[7].
Когерентность реальности и ее репрезентации, порождавшая «эпистемологический оптимизм», длилась недолго. В 60-е гг. XX в. начинаются кризис организованной современности и культурная революция во имя «индивидуальности, либеральной современности, против навязывания любого предзаданного порядка»