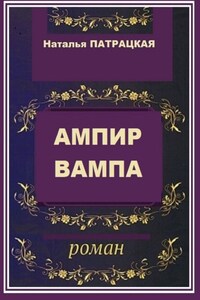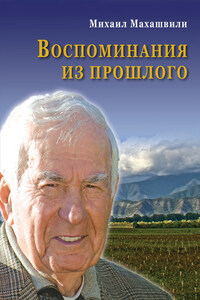“Милостивый сударь.
Обращаюсь к Вам, ибо больше не к кому мне обратиться.
И прошу простить меня, ежели просьба моя нынешняя покажется Вам неуместною. Ныне многие из тех, которые давече именовали себя моими друзьями и свято уверяли в своей расположенности к моей особе, предпочитают делать вид, будто бы вовсе со мною не знакомы. Что ж, такова, верно, моя судьба. И все же уповаю на Провидение, что Вы, многоуважаемый Иван Николаевич, не уподобитесь тем, кому благосклонность моих родственников, отрекшихся от этого родства, дороже истины. Кому ли, как не Вам, знать, что я была и остаюсь верна своему супругу и телом, и разумом, и душой. Что в наветах, разрушивших наш брак, нет ни слова правды.
Я не прошу Вас стать судией, но лишь устроить нашу встречу.
Я писала письма ему, умоляя о том, но он, не без помощи своей матушки, которая никогда-то не относилась ко мне с любовью, оставался глух к мольбам моим. Но Вас, Ваш талант, Вашу прозорливость он всегда ценил. И ежели Вы передадите ему мою просьбу…»
Не дочитав слезного послания, мужчина скомкал его и отправил в камин. Он отвернулся, не желая видеть, как вместе с бумагой сгорают чужие надежды.
Да и… Пустые это надежды.
Все уже было решено и предопределено, и что бы он ни делал, он не добьется ничего, кроме гнева старой графини, а она на редкость злопамятна. Надобно ли ему это? Не сейчас… Его собственное положение в обществе не столь уж устойчиво. Да, его охотно принимают во многих домах, делают заказы, за которые платят щедро, однако ему ли не знать, сколь переменчива бывает удача.
Так стоит ли…
Не стоит.
Это не трусость, это благоразумие, то самое благоразумие, которого не хватило Матрене Саввишне, а ведь ее предупреждали… Она не слышала, люди никогда не слышат, а после искренне удивляются, как же вышло так, что судьба от них отвернулась.
Мужчина налил вина.
Он сел перед камином, уставился на живое пламя. Он думал вовсе не о чужом горе, но о грядущей выставке, до которой оставалось несколько месяцев… Выставки он любил, поскольку и публика, и критики любили его, точнее, его картины.
И все же… хотелось бы удивить.
Чем?
Отблески вина в бокале ложились на руки, которые самому человеку всегда-то казались слишком уж грубыми, нарочито крестьянскими, чтобы быть пригодными к тонкой работе. Ах, были у него задумки, и эскизы имелись, и все же… все же не то… характерно.
Обыкновенно.
Скучно.
А требовалось нечто этакое, удивительное, что вновь заставит говорить о нем… Мужчина прикрыл глаза. И все-таки сожженное письмо не шло из головы.
Даже не письмо, а женщина, его написавшая.
Ах, до чего красива она была… Неподобающе красива… и удивительна… и не удивительно, вовсе не удивительно, что он сам не устоял пред этим природным очарованием, написав ее портрет.
Где он?
Если попросить графиню… Она скорее уж сожжет полотно, чтобы ничего не напоминало о неугодной невестке. А супруг все-таки любит ее… не расстанется… Или Матрена Саввишна забрала портрет с собой? Почему нет… Больше у нее нет ничего, что бы и вправду ей принадлежало… Ах, до чего неудачно… Пусть и написан он был в нехарактерной манере, но… в том и интерес, и новизна… и сколь неосмотрительно было поддаваться чувствам.
Чувства мимолетны.
С другой стороны… выставь он полотно, графиня точно осталась бы недовольна.
…а вот если написать новую картину.
…Он никогда-то не работал без модели, но модель имеется. Есть эскизы, наброски… Есть и память его, которая прежде не подводила. Он и сейчас распрекрасно помнит каждую черту ее лица… Пожалуй, черты эти следует несколько изменить, избегая полного сходства… Нанять девицу для позирования… и сделать нечто среднее, тогда никто не сможет обвинить его, хотя, видит бог, его-то точно не в чем обвинять.