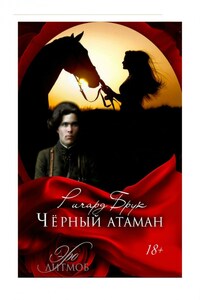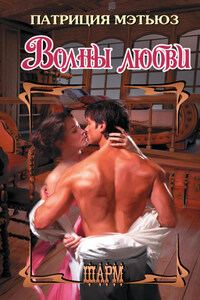Бабка силы не жалела. Коленки у Варюшки теперь были синие, не
беда. Но вот правое плечико саднило так, что окно больше девчачьим
усилиям не поддавалось. От того Варя скреблась в иссохшую раму
словно загнанный зверь: "Пропала! Пропалаааа!.. "- выла она
в рукав горячими слезами и старалась не смотреть Луну. А Луна, как
на грех, стояла полная, словно налитая молоком грудь. И свет из
неё сочился - затягивал в тугие петли.
Ножки - веточки, веснушки на спине и глаза угольно - чёрные, в
отца: вот и вся Варина красота. В деревне её замечали разве что на
покосе. Дивились, как ловко падчерица бабы Нины цепляет на вилы и
перебрасывает через себя огромные копны душистого сена. Ставили
Варюшку всегда со старшими детьми, а выходило, что заканчивала она
раньше всех. Мужики - косая сажень в плечах - останавливали работу,
мерили тонкую Варю взглядом и звали на гулянья. Гулять Варя в свои
почти семнадцать не решалась, и о девушке забывали до следующего
Иванова дня.
Дом бабы Нины стоял на окраине деревни Низовки Тверской
губернии. Когда разливалась речка Шоша, мутная зелёная вода
покрывала всё вокруг, но избу не трогала, и та каким-то чудом
стояла сухая. В деревне шептались, будто нелюдимые бабка с
падчерицей ворожат, и дом с его жителями обходили стороной.
- Пусть так, - вздыхала баба Нина, вытирая мягкое козье вымя. По
дороге из хлева, она слышала грустный падчерицын вздох и шла
запирать дверь на сколоченный женской рукой дубовый засов. -
Лучше так, чем по миру наша тайна пойдет.
Тайну эту не зря держали за семью замками.
Сколько часов провела баба Нина, вслушиваясь в ночные шорохи, не
счесть. От каждого скрипа из Вариной спальни сердце её ухало в
темную жижу страха словно с обрыва. Вот, снова. Пыхтение, сопение.
Будто кто возится, борется, выпутывается. Цокот, скрип, тишина.
Через вечность, а на самом деле через час, снова скрип, но поступь
уже девичья, легкая, шелест одеяла, наконец тишина. К рассвету Нина
начинала чувствовать занемевшее тело, ворочаться с боку на бок и
молиться: их обычно находили с петухами. Через окошко слышался
вскрик, топот, потом женский вой, хлопанье калитками, гул
приближающихся к реке возбуждённых голосов, все громче и громче,
чавканье увязающих в речной тине сапог, дружное мужское «взяли»,
плеск воды, бормотание и протяжное женское «Оооооой!». Нина
оправляла передник и на ощупь шла в комнату падчерицы. Та сидела на
кровати, поджав под себя грязные пятки:
- Я терпела как могла, мам!
- Простокваша на столе.
- Ну дай сказать...
- Шить на тебя! Молчи, проклятая! – Нина взрывалась бранью, еле
держась за шершавый дверной косяк, - Как поешь, иди малину
собирать, кусты уже ломятся! И ноги сейчас же вымой.
Варя едва успевала скрыться в предбаннике, как толпа деревенских
мужиков с вскинутыми на плечи ружьями подходила к забору. Нет, не
слышала. Ни драки, ни голосов. А откуда очередной утопленник рядом
с её домом - так их каждое лето в эту сторону течением сносит. Что
ж теперь делать, чай не новый дом у председателя просить. Мужики,
чесали затылки и уходили, а Варя как ни в чем не бывало шла за
ягодой.
Вот уже пару лет в Низовке пропадали мужчины. Всегда летом, на
полную Луну рыбаки находили в реке утопленников. Спины их были
исполосованы рваными ранами, как будто кожу драли огромными
звериными когтями. Рот и глаза замирали от ужаса, одежда грязная, и
деньги, если у утопленников и водились, то лежали в карманах
нетронутые. Стало ясно, что не воры промышляют у речки, а дикий
зверь. Только облавы не помогали: как не сторожили охотники тот
берег реки. А к третьему утопленнику и вовсе заметили, что парней
находят, как на подбор: буйных, горячих, пьющих с тихими жёнами, да
битыми ребятишками. После похорон такие на людях выли белугой, а по
ночам облегченно крестились за упокой. Ничто не помогало найти
душегубца, и пошла по деревне молва будто сама бесплотная неведомая
сила наводит в деревне порядки. Прознав о том, городская полиция,
ведавшая порядком в Низовке, усмехаясь, отправила разбираться с
«неведомой силой» своего лучшего унтер – офицера.