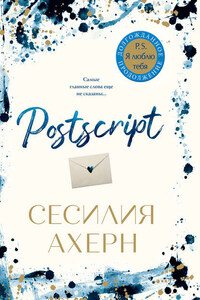Июль 1764 года. Гостиница «Голова быка», Аббевиль, Франция
Нечасто услышишь сыпавшую проклятиями монахиню.
Робин Фицвитри, граф Хантерсдаун, заканчивал есть, сидя за столиком у окна, и поэтому хорошо видел женщину в каретном дворе. Вне всяких сомнений, это была монашка.
Женщина стояла под внешней галереей, из которой можно было пройти к спальням на втором этаже. Простое платье подвязано веревкой, темное покрывало на голове ниспадает на спину. С пояса свисают деревянные четки, на ногах, возможно, сандалии. Она стояла, повернувшись к нему спиной, но он подумал, что она, возможно, молода.
– Maledizione![1] – взорвалась она.
Итальянка?
Комок шерсти, прозванный Кокеткой, наконец-то оказался полезным. Папильон поставил лапки на подоконник, чтобы посмотреть, что вызвало такой шум. Пушистый хвост махнул Робина по подбородку, и Робин отклонился вправо.
Да, определенно монашка. Что, подумал Робин с растущим удовольствием, делает итальянская монашка на севере Франции, поминая дьявола, ни больше ни меньше?
– Итак, сэр, мы едем дальше?
Робин снова повернулся к Пауику, своему средних лет слуге-англичанину, который сидел напротив него за столом рядом с Фонтейном, его молодым камердинером-французом. Пауик был квадратный и обветренный; Фонтейн – худой и бледный. Они были так же не похожи по натуре, как и внешне, но каждый по-своему подходил Робину.
Едем дальше? Ах да, они обсуждали, взять ли здесь комнаты на ночь или поспешить дальше, в Булонь и Англию.
– Сам не знаю, – ответил Робин.
– Только что пробило три, сэр, – попытался убедить графа Пауик. – В это время года до наступления темноты еще предостаточно времени, так что можно ехать.
– Но гроза превратит дороги в месиво! – воскликнул Фонтейн. – Мы можем застрять.
Возможно, Фонтейн прав, но он хотел как можно дольше задержаться во Франции. Высоким жалованьем и множеством привилегий Робин уговорил камердинера оставить службу у принца, но даже через три года Фонтейн содрогался от каждого возвращения в Англию. Пауик же, служивший Робину двадцать лет, постоянно ворчал, когда они находились во Франции.
– Подумайте, сколько народу только что приехало, – сказал Пауик, разыгрывая очень сильную карту.
Перегруженный берлин[2] совсем недавно вкатился, раскачиваясь, во двор, и из него выгрузилась куча ревущих детей, за которыми поспешила пронзительно кричавшая мамаша. Все они протопали вверх по внешней лестнице, а сейчас разгружали их багаж. Они должны были остаться на ночь, дети все еще ревели, а мамаша все так же пронзительно кричала.
Англичане могли пожелать завязать с ним знакомство. Робин был человеком общительным, но тщательно подбирал себе компанию. Грохот и яростный визг должны были все решить, но он снова выглянул наружу. Его матушка часто говорила, что любопытство его погубит, но тут уже ничего не поделаешь. Такова его натура.
– Ты согласна, не так ли? – спросил Робин. Кокетка дернула своими огромными ушами и завиляла пушистым хвостом.
– Согласна, что мы должны уехать? – спросил Пауик.
– Согласна, что мы должны остаться? – спросил Фонтейн.
– Согласна, что нам следует разведать, что там снаружи, – ответил Робин, беря собаку на руки и вставая. – Пойду взгляну, что там за погода, и попрошу совета у местных.
С этими словами он направился на улицу, засунув Кокетку в большой карман пальто, где она, видимо, чувствовала себя очень уютно. Робину тоже очень нравилось удобно одеваться для путешествия, поскольку теперь в моде были облегающие сюртуки без больших карманов.
Робин подошел к молчащей фигуре, обдумывая, на каком языке заговорить. Его итальянский был всего лишь сносным, а вот французский – идеальным, к тому же они были во Франции.