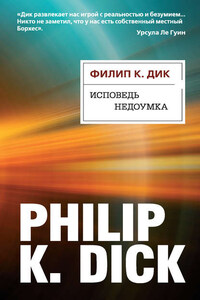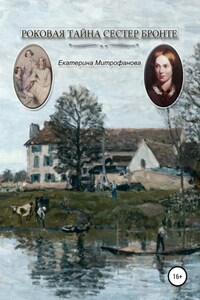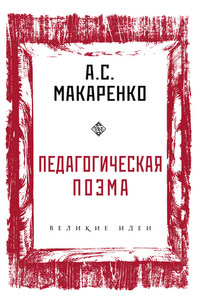Был там такой Иззи Бен Цви, первый человек, спустившийся на лыжах с Анд, где несколькими веками раньше прятались индейцы племени Пюла, спасаясь от тех или от того, что преследовало вас в те далекие времена, – конквистадоры или истинная религия, поди разберись. Испанцы не могли дышать таким разреженным воздухом, и даже христианская вера не забиралась так высоко. Пять тысяч пятьсот метров до земли, двадцать пять дней спуска, дерзкая затея, вот уж действительно, вряд ли кто-нибудь замахивался на нечто подобное. Иззи по натуре своей был таким человеком, которому постоянно нужно было, что называется, сматываться; в глазах его читалось выражение жажды и беспокойства, свойственное людям, которые живут только для чего-то такого, чего здесь нет, а то, что находится рядом, напротив, гонит их с каждым годом все дальше, все выше, к вечным снегам. Сначала Ленни сдружился с этим сыном Израиля, который не знал ни слова по-английски, и у них двоих сложились, таким образом, замечательные отношения. Но уже через два-три месяца Иззи научился бегло говорить на этом языке, и все пропало. Между ними внезапно вырос языковой барьер. Языковой барьер, это когда двое говорят на одном языке. Никакой возможности понять друг друга.
У Иззи мозги были забиты психологией. Не успел он овладеть языком, как сразу принялся разглагольствовать о расизме, о «проблемах черных», о «чувстве вины американцев», о Будапеште. Ленни вся эта психология нужна была как собаке пятая нога.
Поэтому он стал всячески избегать своего приятеля. А чтобы тот не подумал, что здесь что-то личное, Ленни пустил про себя слушок, что он антисемит. Зачем зря парня обижать.
Был еще Алек, рогоносец из Савойи, который там, у себя, работал гидом, вплоть до того дня, когда застал жену в объятиях своего лучшего друга. Ему уже за тридцать перевалило, а он все еще ни черта не смыслил в жизни. Удивительно, сколько на свете взрослых людей, которые будто и не жили вовсе: неоткуда было понабраться. Самое забавное с этим французом то, что эта любовная история посеяла в нем сомнения. Он целыми часами просиживал над фотографиями своих детей, пытаясь вспомнить лица всех клиентов, которых он водил в горы. Ленни, честно говоря, не понимал, на кой ему все это сдалось и какая вообще разница, от тебя ли твой сын или нет? Это же настоящий национализм, подобная мания разбирательства, даже патриотизм, – понимаешь, что я хочу сказать, нет? Знать, твоя ли там кровь или нет, это же де Голль в чистом виде, шовинизм, штучка из разряда Жанны д’Арк. Говорю тебе, если бы у меня, кровь из носу, должен был бы быть сын, так лучше уж, чтоб не от меня. Мы бы тогда ничего друг против друга не имели, могли бы даже приятелями стать. Но французы – все патриоты, они, кстати, сами это и выдумали. А гид, в полной прострации, все рассматривал фотографии своих ребятишек.
– Кажется, старший на меня похож.
– Точно, вылитый ты.
Когда Алек сомневался, он начинал грозить, что взорвет жену, детей и себя самого вместе с ними, к чертовой матери, и это злило Ленни, потому что если, предположим, это не его дети, так зачем же их убивать? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Какой резон сентиментальничать?
– Слушай, где у тебя логика? Теперь, когда ты вот так, сразу, и уверен, что не ты их отец, на что они тебе сдались? Это же ни в какие ворота не лезет.
– Тебе не понять, каково это – иметь детей, которые не от тебя. У тебя никогда их не было.
– Да что ты? Скажу тебе по секрету, в мире полно детей, которые не от меня!