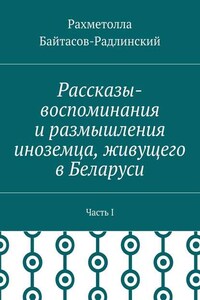Передо мной со скрежетом открываются тяжелые ворота. Я смотрю
сквозь открытое пространство и вижу мокрый асфальт и по ту сторону
от дороги бескрайнее поле, на котором пробуждается трава после
зимней спячки.
Зеленый цвет непривычно щекочет зрачки. Я отвыкла от буйства
красок. Глаза привыкли к серым, бесцветным тонам и, кажется, не
помнят другие цвета.
— Пошевеливайся, Озаки, — получаю тумак в спину от конвоира.
Женщина подталкивает меня вперед. Я делаю шаги, но они даются
мне с трудом. Ноги словно одеревенели. Всего десять метров до моей
свободы, но они кажутся мне непреодолимым расстоянием.
— Давай-давай, красотка фартовая, на выход, — еще пару толчков
дубинкой в спину. — Все вприпрыжку отсюда бегут, а ты идешь, будто
на виселицу, а не на волю. Радоваться надо, что раньше положенного
убываешь.
Я стараюсь совладать с собой, заставить ноги подчиниться и идти
вперед. Нервно тереблю целлофановый пакет в руках.
— Понравилось, что ль у нас? Наверняка закинешься ещё не раз,
грохнешь ещё кого-нибудь. Не исправить вас, все равно возвращаетесь
сюда, — она упорно продолжает говорить, хоть и не получает ни слова
в ответ. — Не выбить дурь из вашей прогнившей башки.
Голос женщины бьёт по нервным окончаниям, сцепляю зубы.
Прибавляю скорости. Делаю пару шагов и преодолеваю красную черту,
оставив за собой высокие стены тюрьмы.
Оборачиваюсь назад и смотрю на злое, недовольное лицо женщины в
форме, которая в любую минуту грозится разойтись по швам. Она
усмехается ехидно. Перед глазами проносятся все унижения, которые
она учиняла над девушками – заставляла их драить сортиры посреди
ночи, а меня – стоять и смотреть на это. Самая агрессивная из всех
надзирательниц. Она взъелась на меня, ненавидела, но я так и не
поняла за что.
Наверное, ей и не нужен был особый повод для ненависти или
наказания. Сам факт того, что мы в заключении для нее уже веский
повод, чтобы принизить нас и обращаться, как со скотом.
Меня она никогда не трогала физически. Но предпринимала все,
чтобы унизить морально и заставить остальных ненавидеть меня.
— Соскучишься по своим подружкам сокамерницам, возвращайся, —
говорит она, отхаркнувшись на землю. — Может в следующий раз у тебя
не будет влиятельного покровителя, и я, наконец, заставлю тебя
отдраить все сортиры.
Я смотрю на нее и все больше убеждаюсь, что она психически не
здорова. Я не понимаю, о каком покровителе все время талдычит эта
женщина. Почему все эти годы она не трогала меня, но при этом так
люто ненавидела?
Она начинает гортанно хохотать до тех пор, пока ворота не
закрываются, разделив нас по разные стороны. Я вздыхаю и неотрывно
смотрю на коричневую сталь.
Перед глазами начинает все расплываться и мутнеть. Я хочу
обернуться, перестать смотреть на ворота, что ограждали меня
столько лет от мира вокруг, но боюсь…
Вдруг это всё сон? Очередной сон, который снился мне многие
годы, где я оказывалась за воротами тюрьмы, и там были бескрайние
горы.
Во сне я гуляла по ним, взбиралась вверх ранним утром, еще до
того, как солнце окончательно поднималось в небе. Или гуляла по
полю, усыпанному маками. Они покачивались на ветру пестрыми
головками и завораживали своей красотой. А рядом со мной бегали
ягнята, черные и белые, они резвились и заставляли меня громко
смеяться.
Я родилась и росла в деревне до окончания школы. И все эти сны
были картинками из прошлого. Мне снились родные края. Раньше я не
тосковала по ним, была довольна городской жизнью. Радовалась, что
мы переехали. Но находясь взаперти, я тосковала именно по месту,
где родилась.
Дует ветер, он касается кожи моих щёк. Я закрываю глаза от
прекрасных ощущений. Я думала, что больше никогда не смогу
почувствовать на себе прикосновение ветра. Старалась вспомнить,
каким оно бывает: летом – теплым и ласкающим, дарующим свежесть и
прохладу, осенью – холодным и заставляющим укутаться в плед и пить
горячий чай с лимоном, а зимой – режущим, бьющим по щекам,
вынуждающим скорее бежать домой и греть руки возле горячей
печи.