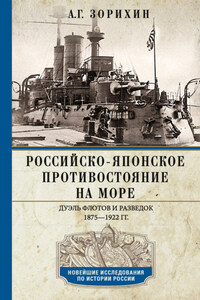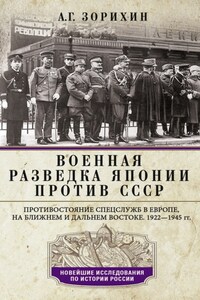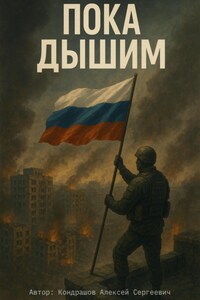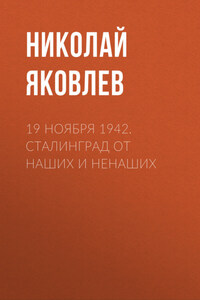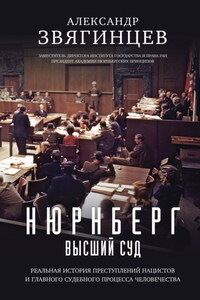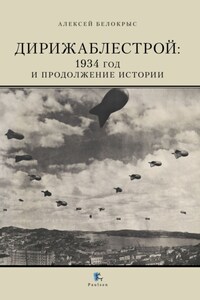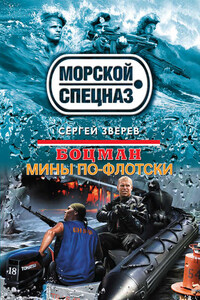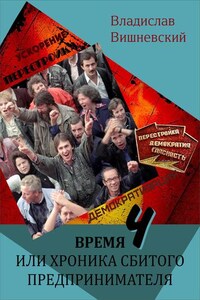История российско-японских отношений конца XIX – первой четверти XX в. по праву остаётся одной из наиболее востребованных тем для исследователей, поскольку победа Японии в кампании 1904–1905 гг., в которой, казалось бы, должна была выиграть большая по площади, населению и ресурсам держава, не укладывается в привычные стереотипы. Разгром 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении (1905) стал не только одной из причин поражения России в этой войне, но и имел следствием тотальное доминирование японского флота над царским (советским) на Дальнем Востоке вплоть до капитуляции Токио в сентябре 1945 г.
Однако в тени Русско-японской войны остаётся иностранная интервенция в нашу страну в 1918–1922 гг., в которой Япония и её военно-морские силы также приняли деятельное участие. В обеих кампаниях успех действий этого островного государства и его флота был во многом предопределён результативной работой разведывательных органов империи.
И если о деятельности военной разведки Японии в 1875–1922 гг. известно достаточно много, то об её военно-морском собрате знают в основном посвящённые. Причина проста – исследовательская лакуна связана с малым числом введённых в оборот первоисточников и сложностями с их переводом с классического японского языка начала XX в.
Тем не менее архивная революция и цифровизация документальных коллекций позволяют сегодня пересмотреть устоявшиеся представления о деятельности разведывательных органов ВМФ Японии, оценить их вклад в строительство военной мощи империи, реализацию внешней политики Токио на российском и советском направлениях, рассказать о наиболее ярких представителях военно-морской разведки, среди которых были, например, первый японский морской офицер-стажёр в Санкт-Петербурге легендарный капитан 2-го ранга Хиросэ Такэо или один из творцов победы в кампании 1904–1905 гг. на море резидент Морского Генерального штаба (МГШ) в Чифу капитан 1-го ранга Ямасита Гэнтаро, ставший позднее главнокомандующим Объединённым флотом.
Оценивая изученность вынесенной в заголовок книги проблемы, следует признать, что в отечественной историографии деятельность разведки японского флота рассматривалась слабо.
Впервые на этот вопрос исследователи обратили внимание по окончании Русско-японской войны, когда под впечатлением поражения царского флота в российском обществе стали слагаться легенды о тотальном засилье японских шпионов. Однако даже в таких солидных трудах Военно-исторической комиссии и исторической комиссии при Морском Генеральном штабе, как «Русско-японская война 1904–1905 гг.» (1910–1918), о военно-морской разведке Японии не говорилось ни слова, хотя к агентуре империи в Восточной Сибири, Маньчжурии и на Квантунском полуострове были причислены практически все проживавшие там японские колонисты>1. Впоследствии миф о широком проникновении японских разведчиков был повторён А. Вотиновым в книге «Японский шпионаж в русско-японскую войну 1904–1905 гг.» (1939) и коллективом авторов совместной монографии Академии наук и Института военной истории Министерства обороны СССР «История русско-японской войны 1904–1905 гг.» (1977), в которой, в частности, утверждалось, что «задолго до начала войны Генеральный штаб японской армии заслал в район размещения русских войск на Дальнем Востоке большое количество агентов, от которых получал все необходимые сведения о количестве войск, уровне их подготовки, материальных запасах, состоянии и работе транспорта»>2.
Необходимо признать, что в советский период в открытых и закрытых исследованиях японская военно-морская разведка если и упоминалась, то лишь в контексте деятельности её резидентуры в Сэйсине (Чхонджине) против Тихоокеанского флота в 1935–1945 гг. и неудачной попытки советской военной контрразведки задержать по горячим следам руководителя этого разведаппарата капитана 1-го ранга Минодзума Дзюндзи