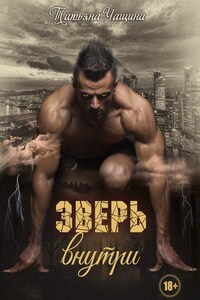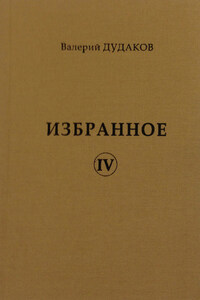Пленник повёл плечом, силясь размять затёкшие мышцы. Звякнули звенья цепи, спиралью опутавшей его тело от шеи до ног. Он стоял на коленях, потому что цепь, закреплённая у стены, не позволяла подняться в полный рост.
Авель не знал, сколько дней прошло за стенами его тюрьмы. Он не пытался считать, потому что не имел возможности ни делать зарубки, ни наблюдать лучик света, ползущий под потолком — в его темнице не было ничего, что позволило бы ему ощутить хотя бы тень власти над собой.
Он не знал, сколько времени прошло, но отчётливо ощущал, что удушающее, всеохватывающее безумие подползает к нему всё ближе день за днём. Час за часом. За ночью ночь.
Редкие визиты тюремщиков закончились настолько давно, что иногда Авелю начинало казаться, что они были сном.
Раз в неделю приходил безликий надзиратель. В молчании опускал на пол доску с едой — кусок мяса размером с ладонь, жира в половину его, краюху хлеба и чарку с водой. Всё из дерева — видимо, чтобы не расколол. Рук ему не освобождали. Авель ел наклонившись, как пёс. Они и называли его псом. Он никогда не возражал. «Лучше быть псом, чем шакалом» — так он считал.
Авель пробовал считать время по этим пайкам, но голод мешал запоминать, а если пленник думал о еде — становился только сильней.
Он успел насчитать четыре по четыре и ещё раз по четыре пайков, когда понял, что уже не знает, сколько раз умножал. Авель умел считать, но с каждым пайком соображать становилось всё трудней. Он чувствовал, что стремительно тупеет в этой темноте.
— Хотел бы я знать, что раньше: Ветры заберут меня к себе, или Песнь заглушит все звуки царства людей?
Авель иногда говорил сам с собой. Ему было нужно это, чтобы убедиться в том, что он не забыл ни одного из языков, которые знал. Когда-то их было много, этих языков. Но Авель всё чаще ловил себя на том, что путает их между собой.
Когда-то давно — семь или восемь по семь пайков назад — он пытался заводить разговор с тем, кто приходил с едой. Тогда тот бил его плетью по лопаткам, впечатывая в кожу холодную тугую цепь.
Авель не любил жаловаться: на голод, на темноту, на боль. Но он не был настолько глуп, чтобы бесконечно делать то, что приносит ему эту боль.
Боль была тем, что энтари умели делать лучше всего. Они, казалось, знали все оттенки этой многоцветной субстанции, так что Авель порой с завистью и восхищением думал об этом мастерстве. Наставникам, поровшим юных катар-талах шипами агавы, чтобы приучить к сдержанности, было до них далеко.
Когда-то давно Авель пробовал задавать вопрос тому, кто заходил к нему:
— За что?
Тот, чьего лица он не видел, смеялся в ответ.
— Потому что смешно, — отвечал он. Если бы в комнате не было так темно, Авель мог бы подумать, что тот наслаждается видом его рассечённой в клочья спины — такие долгие паузы его тюремщик делал после каждого удара кнута.
Авель знал, что тот на самом деле не решает ничего. Он был лишь фишкой в игре тех, кто стоял несравнимо выше него. Такой же пешкой, какой был Авель. И так же легко мог оказаться по уши в дерьме.
Иногда Авель его даже жалел. Он знал, что если настоящему хозяину надоест и этот плечистый человек с маленькой душой окажется в такой же тюрьме — он не протянет здесь и десятка пайков.
Тюремщик делал то единственное, что умел. То единственное, что позволяло ему не умереть.
«Как и мы все», — думал Авель. И хотя когда-то давно мысли о собственном предназначении утешали его, с каждым новым десятком пайков горечь становилась всё сильней.
«Интересно», — думал он, — «Кто победил в войне?».
Авель как мог старался заставить себя сожалеть, мечтать о свободе и бояться за своих людей — но не чувствовал ничего.
«Будь всегда полезен зиккурату своему», — так говорил наставник тогда, много лет назад, когда Авель ещё знал, как выглядит солнечный свет. Но никто не говорил ему, как остаться верным зиккурату, когда забудешь, как выглядит свет и звучат голоса твоих братьев.