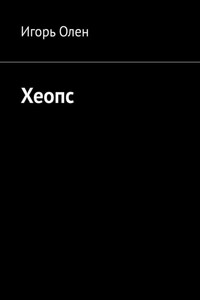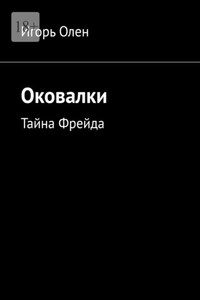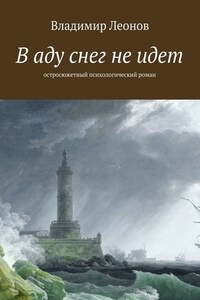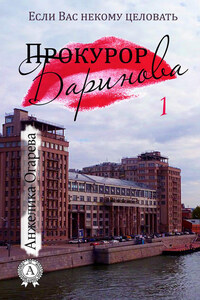Rusология. Хроники Квашниных
Картины русского общества начала XXI века: с изменами, воровством, предательством и убийствами, с наитиями о жизни, русскости, человеке и его ценностях. Авантюрный, духовный, криминальный, любовный, мистический, эстетический, философский роман.
| Жанры: | Современные детективы, Современная русская литература, Прикладная литература |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | Неизвестен |
Читать онлайн Rusология. Хроники Квашниных
Книга заблокирована.
Вам будет интересно