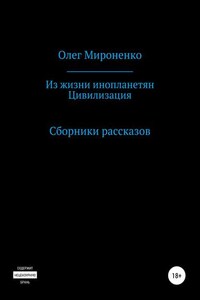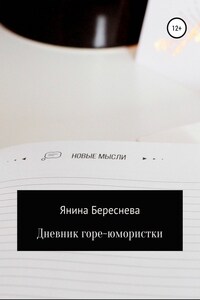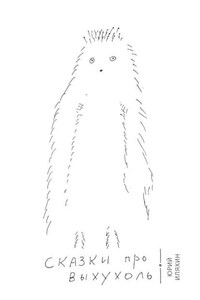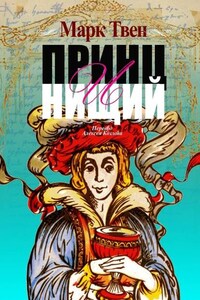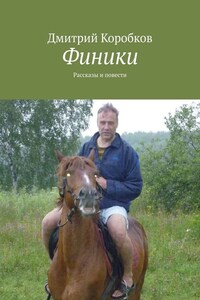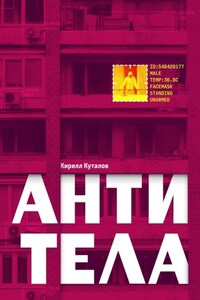…Он втиснулся всем тельцем в просвет между полом и батареей, и всё одно дрожал – откуда-то сквозило прямо сквозь него. Сверху доносился гул обладателей голосов – людей. Они тоже жались к батарее, чем-то булькали, крякали и гудели, гудели, непонятно для чего и зачем… Иногда в него летели какие-то едко пахнущие предметы, и тогда он силился ещё сильнее прикрыть свой сухой нос рыжей в деликатных разводах полутонов лапкой, зажмуривал глаза и остро ощущал свою неприкаянность. Порой кто-то дёргал его за хвост, заставляя всем тщедушным тельцем ощутить грубое прикосновение чужеродности. Попросту говоря, над ним куражились подвыпившие ханыги: так, без злобы – зажигалку к усам никто не подносил. А если вас случайно интересует эта тема, так сходите-ка лучше в соседний подъезд и спросите у Черныша – какого это… Закуски у ханыг никакой не было, а то, глядишь, и подкинули бы котёнку кусок другой – хоть шкурки от колбасы, хоть сырка крошку. Да кто их знает? Может, и подкинули бы… Не зря же они, наверное, людьми родились.
… Степаныч сурово поднимался по лестнице – лифт он, по причине накопленных запасов в районе живота, с некоторых пор стал презирать, а заниматься глупостями вроде диет и утренних пробежек у него не было ни склонности, ни времени, ни заточенной под это силы воли. На работе суетился он мало (как и положено мастеру газового хозяйства), рот открывал только в силу необходимости, справедливо полагая, что люди и так слишком много трындят, и боролся с лишними калориями исключительно возвращаясь с работы домой пешком и поднимаясь ножками, ножками, хотя и держась за перила, на свой родной седьмой этаж. На этот раз в районе четвёртого вышла заминка, чему он даже по-детски обрадовался, тут же вытащив из дырявого кармана пуховика несвежий платок и обмакнув его в красное лицо.
– Фу-у-ф… – выдохнул он и вступил в диалог с отдыхающими товарищами, естественно, хорошо ему знакомыми: выручали друг друга не раз, и даже не десять. Правда, в последнее время былую компанию Степаныч особо не жаловал.
– Что, черти, опять загуляли? – задал он нелицеприятный вопрос, вполне имея на это право, как человек, честно отработавший положенные ему часы, хотя и пропустивший в процессе осточертевшей монотонности дня стаканчик-другой крепкой жидкости. Пил он с некоторых пор исключительно самогонку, которую сам же умеючи и гнал.
Ответом ему было неопределённое мычание, не лишённое, впрочем, неких признаков совестливости, вылившейся в робкое предложение со стороны Бегунка, самого молодого из кампании:
– Да вот, погреться решили… Примешь с нами, Степаныч?
Тот только хмыкнул:
– Эх, босота ты, босота… Знаешь ведь, что я ваше пойло не употребляю.
– Ну, тебе виднее…
Бегунок опрокинул в себя дозу из пластмассовой посуды, вдруг поперхнулся, закашлялся, засучил ногами и задел-таки, полоротый, рыжего котёнка, уже было прикорнувшего под батареей. Тот обиженно взвизгнул, виновато высунул мордочку наружу и тут же задрожал.
– Эт-то ещё что за чудо? – медленно процедил Степаныч, разглядывая неприкаянного зверька.
– А это, блин, Рыжик, – охотно пояснил Трёхпалый, по глупости потерявший в своё время полезные органы, когда работал на лесопилке в армии. – Недели две уже тут отирается… Поди, подохнет скоро. Мне как-то пофигу, но… Забрал бы ты его к себе, что ли.
– С какого такого рожна? – нахмурился мастер. – Я тебе Мазай, что ли?
– Бирюк ты, а не Мазай, – вступил в разговор Серёга-десантник, контуженный в Чечне и как раз сегодня пропивавший грошовую пенсию за то, что однажды оказался не в том месте в ненужное время. – Как жена умерла, совсем ты одичал. Пьёшь в одиночку, ходишь в рванье… Возьми. Глядишь, и на душе меньше саднить станет.