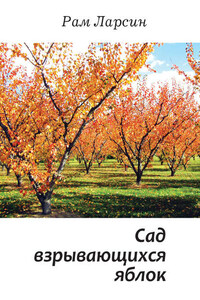Дождь, широкий и мощный, полгода обходивший этот иссушенный край, внезапно хлынул с неба, и когда за тучами погас последний луч солнца, лицо Нины продолжало светиться каким-то таинственным сиянием – так по ночам, прикасаясь к ее телу, я думал, что оно излучает собственный теплый свет.
– Кончилось это страшное лето! – В ее глазах были слезы или капли, брызжущие через открытое окно. – Какое счастье!
И я не решился сказать ей о письме, которое получил сегодня, не мог омрачить этот ее радостный порыв, потому что она была моим солнцем, и она была моим дождем…
Я вспомнил это темной глухой ночью, ворочаясь без сна на жесткой казарменной койке. Нина побледнела, узнав, наконец, о повестке в армию. Должно быть, в мыслях ее возник образ моего отца, погибшего в стычке с чеченцами: для Нины они ничем не отличались от тех, что подстерегали меня здесь.
Ее страх невольно передался мне, я накричал на нее, а потом извинялся долго и основательно – благо было чем. И сейчас, засыпая, я думал о ее губах, груди, бедрах и о том, как странно говорят о ночи – глухая…
Отряд подняли с первыми всполохами зари, но Шломо, тощий йеменец с кипой на кудрявой голове уже ждал нас, держа закопченный кофейник над маленьким зыбким костром. Так исполнял он свою ежедневную мицву перед людьми и Богом, который, наверно, воздаст ему за этот ароматный глоток кофе холодным утром.
Появился самал, черный, полуголый, казавшийся в тусклом свете фонаря сбитым из простых геометрических фигур – круглая голова, треугольный нос, квадратные плечи. Окинув всех снулым еще взглядом, он произнес как заклинание:
– Авиноам!
– Мефакед? – вышел вперед рабат, грузный, приземистый и всегда хитро улыбающийся.
– Я вижу, без меня к нам новенького определили.
– Вчера прибыл. Парень исправный. Не то, что некоторые. Верно, Иоси?
– Иоси, Иосале! – повторяли на разные лады солдаты.
Я уже знал, что у нас, как во всякой уважающей себя части, есть мишень для грубого мужского юмора – рыжий малый с жалкой сморщенной физиономией еврея из штетла.
– Отставить это! – прервал общее веселье самал. Изящным жестом, какой трудно было ожидать от его тяжелой руки, он принял чашечку, пригубил и застонал, разнежась. Это, должно быть, придало ему силу воли взглянуть на меня:
– Имя?
Моя скрежещущая ашкеназийская фамилия произвела на него сильное впечатление. Он усмехнулся:
– Рабат, ну как ты будешь звать нового бойца?
Еле вырвав из себя первые звуки, Авиноам к концу стал задыхаться, чем привел начальство в отличное расположение духа. Глаза его снова обратились ко мне:
– Хуялта?
На это раз сконфузился я. Стоящий рядом Иоси подсказал:
– От ивритского “хаял”, в смысле полностью ли ты экипирован.
– Да, мефакед!
– Хорошо, Жреб-кор-ски, – тоже не без труда произнес самал, вызвав сочувственный смех подчиненных.
– Молчать! Вы лучше представьте себе, как звучат для русского ваши собственные фамилии: Эльбас, Молхо, Кадури, – командир исчез за дверью, очевидно, чтобы одеться, но, и невидимый, продолжал журить своих солдат, – Зилха, Элиа, Марьюма! Жалкая деревенщина, вы не способны понять культурного человека, как это, има шело – Жебер – Чебер, – он запнулся и вдруг мы услышали его громоподобный хохот, охотно поддержанный с этой стороны. Наконец, самал предстал перед нами, и я не узнал его. Затянутый под самую селезенку видавшим виды ремнем, холодно блестя безволосым черепом и вбитой, казалось, в мощную грудь планкой боевых наград, он был готов к любым передрягам, и голос его не предвещал ничего хорошего:
– Через полчаса выступаем. Сейчас – в столовую, пятнадцать минут на завтрак. Напоминаю: из строя не выходить.
– Можно, я пойду с тобой? – робко попросил Иоси. – Ребята все время пристают.