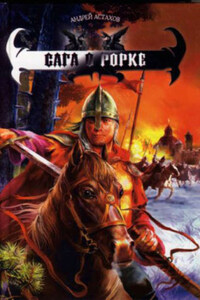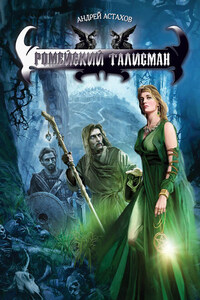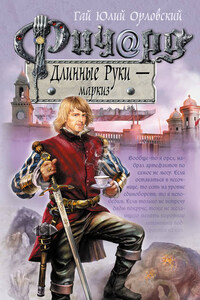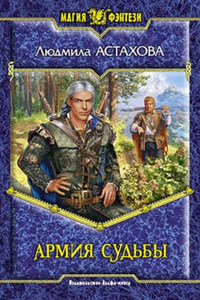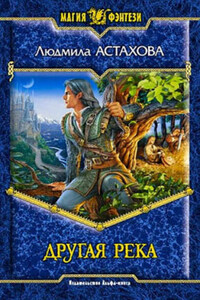Луг был ярким, цветущим, весенним и каким-то золотистым. Над сплошным ковром одуванчиков вставали более высокие травы и цветы, иные выше мальчика лет пяти, игравшего на лугу. Дальше был край леса, густого и древнего, сырого и темного, но здесь было солнце – много яркого животворящего солнца. Пресветлый Ярила царил в небе, щедро даря миру свое тепло. Так что луг был залит ярким золотым сиянием.
Мальчик, задрав лицо, сквозь прищуренные глаза смотрел на солнце. Бегать он не мог – залатанная рубаха из домотканого холста была слишком длинная ему, и он падал, спотыкаясь о подол, всякий раз, когда пытался побежать. В длинных мягких волосах, белых, как чесаный лен, укрылись травинки, нос был желтоватым от пыльцы. Какие-то цветы нависли над ним – странные, бледно-желтые и фиолетовые, со странным запахом. Мальчик взмахнул палкой. Ударил по стеблям. И поднялся ветер, будто от взмаха его палки.
– Вой[1] есмь, – сказал мальчик, глядя на солнце.
Глаза у него будто впитали солнечное золото. Таким бывает удивительный камень, который выбрасывают волны на берег Варяжского моря. У антов такие глаза редкость. Впрочем, мальчик об этом еще не знал.
– Рорк, иди домой! – пронеслось над лугом. – Сыночек, домой!
Мальчик обернулся. Мать в мужской рубахе и куртке и охотничьих пончохах[2] стояла у края леса, опираясь на рогатину. Рядом стоял рослый муж лет сорока пяти с окладистой бородой, одетый землепашцем – но держался он, как воин.
– Смотри, Мирослава, растет твой богатырь, – сказал мужчина. – Пятый годок ему пошел. Как думаешь дальше жить-то?
– Как жили, так и будем, – ответила женщина. – Лес нас укроет.
– Делево от людей скрыться. Не приведи боги, жонки-грибницы заметят тебя или мальца, или ахоха[3] какой на сруб ваш в лесу наткнется.
– Идти нам некуда, отец, – синие глаза Мирославы подернулись холодом. – Может, зараз хазарам в ясырь продаться?
– Джуда-хан со мной говорил, – после паузы сказал мужчина. – Гонца прислал, руки твоей просил. Сказал, с сыном возьмет.
– Хазарину веры нет, – Мирослава мотнула головой. – Сладкими речами блазнит, но обманет. Рабыней своей, подстилкой сделает для утех, неино[4] торговцам рабами продаст за пару гривен. Пошто, отец, Турну запретил к нам ходить?
– Световид прознал о том, что варяжин к тебе ходит, – вздохнул князь. – Говорит, прознают другие про Турна, скрывать вас больше не получится. Турн муж честный, но как все честные глуп. Наведет на ваш след кого не надо.
– Боишься? – Мирослава сверкнула глазками. – Волхвов боишься? А ведь ты князь. Внук твой в лесу растет, аки зверь дивий.[5] Зайцев и тетеревов руками ловит, следы зверя по запаху находит.
– Жаль мне его, но через волхвов сказано было, проклятие на муже твоем и на сыне вашем. Не я то сказал – Световид. Он на потрохах звериных гадал. Многая кровь через сына твоего прольется. Ждать надо.
– Пять лет жду. – Мирослава отбросила с лица тяжелые русые волосы. – Сама, будто нежить лесная, от людей отвыкла.
– Нет в том греха твоего, Мирослава. Мой это грех, моя вина. Я вас скрываю здесь, будто не дети вы мои, а нечисть, человечину ядущая. Помыслил я, может, вам в Варяжию отправиться? Рорк ведь по отцу урман. И Турна с вами пошлю, пусть мальцу пестуном будет.
– Родина Рорка здесь, отец. Ант он, твоего народа и твоей крови. Нечего земли его лишать. Мне ведь тоже видение было…
– Видение?
– Знаю я, что сын мой первым среди антов станет. Придет день. Он народу своему поможет крепко… ты не бойся, отец. В Лес Дедичей люди не ходят, зачарованное это место, богам и духам посвященное. Волхвы же поклялись и Сварогом, и прочими богами роту свою соблюсти. А я… я сына взращу воином. Проклят он? И пускай. Мне он милее всех, моя кровь, мое утешение.