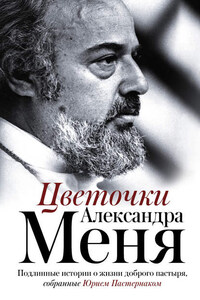«Иногда я могу только стонать, страдать, и выливать моё отчаяние на пианино»,
Фредерик Шопен
Май 1985 года. Мне скоро одиннадцать лет. Я болею. Ни один доктор в городе не может поставить диагноз. Совершенно случайно проездом в наших палестинах почтенного возраста эскулап с мировым именем. Попасть на приём к нему нереально. Нереальных вещей для моего отца нет, он в Иране за молочного поросёнка торговался.
Для эскулапа заготовлен ящик с деликатесами: армянский коньяк, вино «Букет Молдавии», пятилитровая банка сгущёнки и конфеты «Гулливер». Эти конфеты, производимые на местной кондитерской фабрике, в городе достать так же сложно, как в Иране поросёнка.
Через день нам ехать на консультацию, а на заводе, где работают мои родители, гибнет непосредственный начальник бати. Похороны ровно в тот день, когда мировое светило готово меня принять. Цейтнот, так что волей-неволей я становлюсь участником похоронного процесса.
Весеннее небо захмарило ещё с утра. Мелкий противный дождь готовится пойти с минуты на минуту. Восемьдесят пятый – последний яркий год империи, вот-вот начнётся пресловутая «перестройка», и привычный мир рухнет.
Людей хоронят торжественно, с обилием речей и обязательно с музыкой. Я заканчиваю четвёртый класс музыкальной школы и уже умею отличать минор от мажора. Оркестр на прощальной церемонии – это не какие-нибудь пропойцы с тромбонами, а самый что ни на есть профессиональный коллектив во фраках и бабочках. Траурный марш Шопена исполняется в нескольких вариациях, и я пытаюсь их сосчитать. Дождь всё-таки полил, и настроение упало до отметки «печальнее печали».
Слова сказаны, гроб заколочен. На полотенцах деревянный макинтош медленно стал погружаться в финальную яму. Зазвучала каноническая версия похоронного марша. Организатор всего этого, профсоюзный деятель, в народе про таких говорят «шустрый, как кокос», решил расплатиться с оркестрантами. Почему именно в этот момент, он потом пояснить не смог. И, поскользнувшись на мокрой глине, деятель упал в могилу, инстинктивно подняв над головой зажатую в кулак сторублёвку. Торчащая над могилой рука с купюрой начала под музыку постепенно исчезать из поля зрения.
Верующие принялись креститься, у женщин подогнулись коленки, кому-то подурнело, кто-то забился в истерическом смехе, а пара бросившихся помочь мужиков тоже не устояла на ногах и свалилась в могилу. Опускающие гроб на полотенцах удержать тройной вес не сумели, пополнив кучу-малу в мокром котловане. И только оркестр играл слаженно и ровно – там были профессионалы своего дела, во фраках и бабочках.
Я протиснулся сквозь иступлённую толпу и убежал на задворки кладбища. Меня начал душить приступ пока ещё не диагностированного кашля вперемешку с надрывным смехом.
С тех пор от подобных мероприятий я стараюсь увернуться под каким угодно предлогом, каждый раз представляя себе злосчастную купюру, траурный марш и массовый истерический припадок… Собственно, почему представляя… раньше существовала традиция – на похоронах было принято фотографировать…
Врач долго цокал языком, поглядывая на большой ящик, который отец поставил в углу. Пока он меня осматривал, родителей периодически сотрясал нервический смешок, который пожилой человек, я надеюсь, на свой счёт не принял.
Очень неуверенно потомок Гиппократа определил во мне коклюш, от которого и прописал лечение морем. А потом родители взахлёб пытались пересказать ему события сегодняшнего утра. Лишь про Шопена помянуть забыли.
Как правило, слабую долю в начале музыкального произведения называют затактом. Я решил, что книга будет похожа на законченную музыкальную композицию, только в ней все части будут перепутаны между собой. А затакт начинается с сильной ноты.