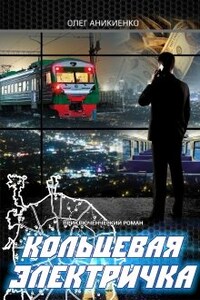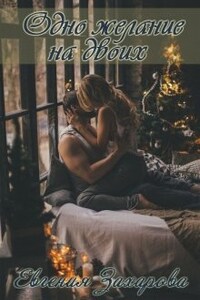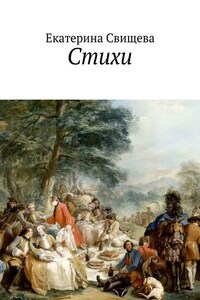- Послушай, мы же договаривались… - шипела я в трубку, всеми
силами стараясь сдерживаться от того, чтобы не сорваться на
истеричный визг. Ненавижу себя, когда начинаю визжать, а потому
стискиваю зубы, зажимаю кулаки в бессильной злобе, и искренне
жалею, что нельзя задушить человека по телефону. – В субботу, в
семь вечера. Сегодня - суббота. Половина восьмого! Какого черта?
Где вы?
На том конце трубки послышался спокойный голос, который
терпеливо и нарочито медленно объяснял мне то, что я уже слышала. И
вроде бы не дурак, но делает вид, что не понимает – я переспрашиваю
не потому, что чего-то не поняла, а потому, что наглость его
перешла все мыслимые и немыслимые пределы. А главное - мне нечем
бить. Вот это, пожалуй, бесило больше всего.
- Какой, к черту, отпуск?
Снова тихие и спокойные доводы на том конце трубки.
- Почему ты мне об этом не сказал? Нет, ты не говорил. Я бы
запомнила. Нет, ЭТО я бы точно запомнила!
Снова поток слов, обезоруживающих и оттого взвинчивающих мои
нервы до предела. Но я по-прежнему держусь, закрывая глаза и
выдыхая через нос:
- И когда ты ее вернешь? В следующую субботу? А детский сад?
Какое заявление? Когда ты его написал? А мне почему не сказал? –
тут я взвизгнула, как дворняга, которой перепало сапогом по ребрам.
Тихие и невозмутимые слова ложились наперевес моим, и весомость им
придавало именно спокойствие, которое сочилось из каждой буквы,
произнесенной им на том конце «провода». Ненавижу его!
- Ты должен был предупредить! - заорала я. Все-таки он заставил
меня разораться. Заставил чувствовать себя психованным
той-терьером. – Ни хрена ты мне не говорил!
Несколько слов на том конце трубки.
- Когда? Три недели назад?
И тут я во всех красках вспоминаю тот разговор от первого до
последнего слова – он говорит мне, что собирается взять короткий
отпуск, всего на неделю, и поехать в деревню, где живет мать
Оксаны. Пуговицу он забирает с собой, чтобы та пересидела самую
жаркую неделю лета вдали от города, поближе к воде. Когда это было
точно, не помню, но зато припоминаю, почему мой мозг вычеркнул эту
информацию – любое предложение, которое начинается, заканчивается
или содержит имя его новой пассии, автоматически вычеркивается из
моей головы, как нечто инородное, дабы не травмировать и без того
расшатанную психику.
Я подскочила с дивана и быстрым шагом направилась к сумке,
которая осталась в коридоре:
- Тебе трудно было напомнить? Ты хоть представляешь, сколько
всякого дерьма у меня в голове, и ты хочешь, чтобы я помнила каждое
событие, о котором ты упоминаешь вскользь? – я судорожно ищу пачку
сигарет, но та как сквозь землю провалилась. И когда он начинает
говорить мне, что напоминал об этом еще раз ровно неделю тому
назад, я забываю о сигаретах и срываюсь на черный мат. Слова,
грязные, мерзкие, пустые, льются из меня, не принося никакого
облегчения, но остановить их поток я уже не могу. Я устала, я
взвинчена, я доведена до отчаянья и хочу курить. Я больше не
контролирую то, что льется из моего рта, и я чувствую, как стыд
заливает меня холодным потом, с головы до ног. Я бросаюсь в него
всякой мерзостью, всем, что попадается по руку взбешенной истеричке
внутри меня, в надежде попасть в «яблочко» хоть одним из миллиарда
сказанных мною слов, но когда я замолкаю, выпотрошенная и
обессиленная, все тот же спокойно-сочувствующий тон красочнее любых
нецензурных слов говорит о том, насколько я далека от цели. Плевать
ему на мои истерики, плевать ему на то, что я говорю и как. Он
хочет побыстрее закончить этот разговор и нажать «сброс
вызова».
К горлу подступает ком:
- Дай мне поговорить с Сонькой.
Он зовет ее к трубке, и я отчетливо слышу, как, где-то на заднем
плане, она кричит ему, что пошла в туалет. Он передает мне ее
слова. На самом деле мы оба знаем, почему она не хочет говорить со
мной – слышала мой истеричный лай в трубке. Она терпеть не может,
когда я кричу и теперь, когда есть возможность придумать небылицу,
которой я буду вынуждена поверить, она рада тому, что не придется
слушать мой охрипший голос и нервное, отрывистое дыхание.