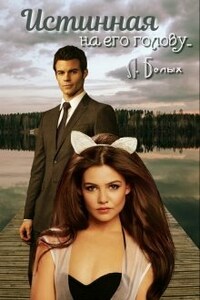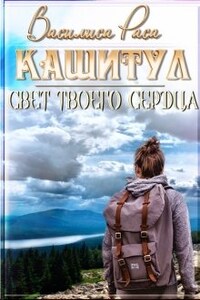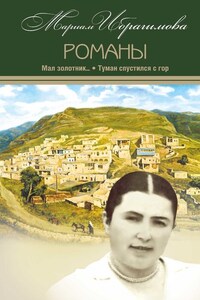Если бы случайный прохожий, идущий по
улице Роторной, поднял бы голову и посмотрел на окна жилого
пятиэтажного дома, похожего на десятки других в этом районе, то не
заметил бы ничего необычного. Стоял прохладный майский вечер. В
воздухе тонким шлейфом повис запах недавно прошедшего дождя.
Высокие клены выстроились вдоль дороги, и в их кронах, поросших
молодой листвой, терялись только что зажженные уличные фонари.
Мягкий свет падал на мокрый асфальт и манил стайки мотыльков, шумно
и тревожно бьющихся крыльями о теплое стекло плафонов. Небо
потемнело, появились первые звезды. Хотя их почти не было видно,
аккуратно вычерченные созвездия тщетно старались привлечь чье-либо
внимание, явно проигрывая по яркости огням мегаполиса.
К вечеру и без того спокойная жизнь
на улице, расположенной в глубине спального района, затихала
окончательно: сюда не долетали звуки машин, молодежь не сидела на
скамейках у подъездов, предпочитая проводить время в современных
развлекательных центрах, а старушки уже разошлись по домам. Лишь
мерный стук колес проезжавших невдалеке поездов порой нарушал
тишину.
Черные квадраты окон постепенно, одно
за другим, освещались, создавая атмосферу уютных семейных вечеров.
Однако так могло показаться лишь с улицы. На самом же деле в
квартире номер двадцать восемь, на четвертом этаже дома номер
шесть, разворачивалась настоящая драма. И, если бы балконное окно
было открыто, то прохожий непременно уловил бы горькое отчаяние в
голосе юной девушки, настойчиво, но тщетно старающейся быть
услышанной.
Заглянув за задернутые шторы, он
увидел бы небольшую гостиную, вдоль стен которой располагалась
мебель, пик моды на которую прошел еще в прошлом веке: коричневый в
цветочек диван с потертыми подлокотниками, «стенка» со стеклянными
дверцами, заставленная наборами чайных сервизов и бокалов, и два
кресла из одного комплекта с диваном. В углу, у балконной двери, –
большой глиняный горшок с комнатной пальмой, а на полу – ковер с
асимметричным узором из различных геометрических фигур.
Посреди гостиной, у круглого стола,
стояла девушка четырнадцати лет, в коротком домашнем халатике,
невысокая, хрупкая, с узкими плечами и худенькими ногами. Ее черные
до плеч волосы были собраны в простой хвостик, прямая челка
доходила до тонких, красиво очерченных бровей, съехавшихся от гнева
на переносице. Большие карие глаза раскраснелись от слез, а
маленький вздернутый нос и дрожащие пухлые губы придавали лицу
девушки детское выражение.
– Вы с ума сошли? Какая деревня?!
Мам, ну скажи ему! – кричала Надя, заглушая звук телевизора. Ее
попытки переубедить родителей натолкнулись на непроницаемую стену
равнодушного отказа и перешли в слезную истерику.
– Надя, это уже решено, – сухо сказал
Иван Анатольевич, уставившись в газету, – и прекрати кричать. Всех
соседей распугаешь.
Отец, в черном трико, белой майке и
тапочках, сидел в кресле, закинув ногу на ногу. Лицо его не
выражало ничего, кроме надменной отрешенности: тонкие губы крепко
сжаты, безучастный холодный взгляд за небольшими прямоугольными
очками устремлен на столбики новостей.
– Плевать я на них хотела! Какая
разница, если мы все равно уезжаем! – Надя взмахнула рукой, будто
отмахиваясь от невидимых соседей. – Мама, ну что ты молчишь, скажи
что-нибудь!
Семья Перовых жила здесь уже пять с
небольшим лет. Квартира была съемная, по мнению отца семейства –
слишком затратная. Он был человеком простых нравов, тратил деньги
только по острой необходимости, и всякие хотелки и капризы были ему
незнакомы. Он коротко стриг свои черные волосы под «ежик» и носил
одежду из разряда «практично и неброско».
Жена Ивана Анатольевича, Лариса
Андреевна, была под стать ему – женщиной чрезвычайно порядочной и
скромной. Она никогда не говорила лишнего, не делала лишнего, не
покупала лишнего и вообще была не особо заметной персоной в доме. И
если бы не огненно-рыжие волосы и веснушки, могла бы сойти, скорее,
за привидение, чем за живого человека.