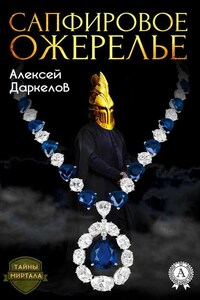Лодку качало. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, и раскачивались из стороны в сторону. Море убаюкивало. Сон накрывал плотным одеялом, но оно все время соскальзывало. Вверх, вниз, вверх, вниз.
Новые туфли перекатывались из одного угла каюты в другой. Мара в полусне волновалась, не начался ли шторм, но проснуться не могла. Она еще плотнее вжималась в бок мужчины, находила его руку, плечо, щеку и терлась лицом. Сознание штопором уходило в тугую морскую глубину.
Идти можно было, только цепляясь за снасти. Нога вдруг неловко вывернулась. Мара схватилась за канат, но лодка накренилась с неожиданной силой. Не удержавшись, Мара, словно в замедленной съемке, перевалилась за борт.
Волна ударила наотмашь. Но, погрузившись с головой, Мара вдруг поняла, что может открыть глаза и оглядеться. Дышалось свободно. Вода была спокойной, теплой и чуть солоноватой. Внезапно кто-то крепко обхватил ее сзади, прижавшись всем телом, и накрутил ее длинные волосы на кулак.
«Морской черт», – подумала она и с усилием повернула голову, пытаясь его разглядеть. Но за ней никого не было – лишь прозрачная зеленоватая вода. «Странно», – удивилась Мара, ведь она явственно чувствовала жар тела сзади. И это было приятно. Она чуть раздвинула ноги, жар проник внутрь нее и принялся двигаться, понемногу ускоряя темп. Вверх, вниз, вверх, вниз.
Открыла глаза, все еще чувствуя его последние конвульсивные толчки в себе. «Как хорошо», – сказала она. Легла на спину и пошарила рукой по кровати. Никого. Села, поставив ступни на прохладный пол, и подумала, что всю жизнь ей снятся сны во сне – двойные или даже тройные, – один последовательно выплывал из другого.
Часы в темноте показывали восемь. Пора вставать, надо успеть в лабораторию до девяти. Кротов ворочается в беспокойном утреннем сне в соседней комнате. Она дома. И никакой качки. Они с Бурой не ходили в море уже несколько месяцев.
Автобус передвигался в пробке толчками, смутно напоминавшими сон под утро. Мара держалась за поручень, почти повиснув на нем. Она вчера звонила Буре, но украдкой. На земле всегда было так – украдкой говорили, целовались, любили. В море же – совсем по-другому: громкий смех, движения широкие, размашистые; даже платья и рубашки падали на пол намного быстрее, не задерживаемые молниями и застежками. «Пора уже в море», – подумала Мара и шагнула из автобуса на замедляющий свой бег асфальт. Она любила выскакивать на ходу – в такие секунды устойчивая земля вдруг могла покачнуться, напомнив ей любимую водную стихию.
Все три мужа были «пойманы» Марой на воде. Хотя она их и не ловила. Скорее, они сами заплывали в ее свободные широкие развевающиеся на ветру юбки, запутывались в этих тонких сетях, пока она уверенно стояла на носу корабля, обнажив в улыбке крупные зубы и отводя от лица рыжие волосы.
Миша был барменом на теплоходе – таскал ей, голодной студентке, плавленые сырки «Волна» и крымский портвейн. Один раз взял с собой в плавание от Москвы до Питера, и ей запомнилось, что они все время стукались зубами, когда целовались ночью на палубе. Через три месяца она вышла за него замуж. Свадьбу отмечали на теплоходе – бурно, весело, с падениями за борт. Мара хохотала, выжимая мокрые волосы. Она и не подозревала, что жених – вовсе не плутоватый бармен Миша, а что она навеки обручилась со стихией. Погиб Миша очень скоро и нелепо: разъяренный пьяный пассажир ударил его полупустой бутылкой портвейна, неудачно попав в висок.
Дима рисовал парусники. И носил длинные волосы и спущенные ниже резинки трусов джинсы. Попа у него была маленькая, крепкая, очень мужская. Мара влюбилась сначала именно в нее (Дима стоял впереди в очереди за красками), потом в самого Диму, а затем окончательно и бесповоротно – в его картины с белыми гордыми парусами во все полотно. Но тогда в магазине они даже не переглянулись – он купил несколько тюбиков белил и ушел, не заметив заинтересованного взгляда Мары. Он вообще, как потом выяснилось, мало на кого обращал внимание – ходил погруженный в мысли, или, вернее, в художественные замыслы.