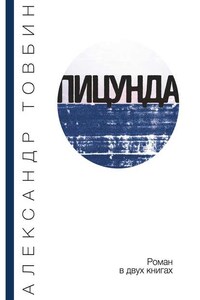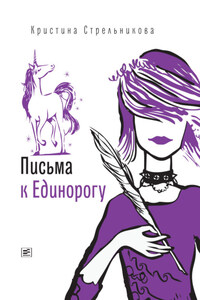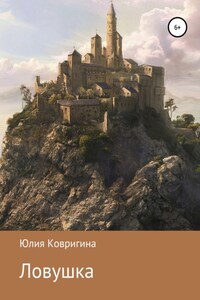Дома, через которые протекают под напором лет наши жизни, подобны волшебным фильтрам: «эфемерности», казалось бы, вылетавшие в потусторонние форточки, пропитывают камни, оседают на стенах и потолках…
В центре повествования – уникальный дом.
Возведённый на пике Серебряного века, дом этот стал новым символом Петербурга, хранителем легенд, тайн, симбиозом истории и частных судеб; воскреснут лица в слепящих солнцем и заплаканных окнах. В портретах, набросках, узорах событийного фона обнаружится и сквозной сюжет, дремавший столетие, но пробудившийся в наши дни.
© Товбин А., текст, 2022
© Геликон Плюс, оформление, 2022
* * *
Я оглянулся.
С колокольни Владимирского собора снимали леса, – свежеокрашенная, бело-жёлтенькая, и купол позолотили; тело собора, маковки, ещё в плену мутного целлофана, за ним темнеют силуэты реставраторов… – всё меняется.
Всё?
Взгляд привычно проскользнул мимо лоджии метро с толстыми колоннами по краям в Большую Московскую – впритык к метро, в коммунальной квартире на третьем этаже, прожил я много лет, но мемориальную квартиру поглотил офисный центр, все окна дома исполосовали жалюзи. А на фасаде, заворачивавшем с Большой Московской на Владимирскую площадь и – далее, на Загородный проспект, я, вооружившись отцовским биноклем, изучал печальные, бесславно затем погибшие при капремонте алебастровые маски с резко прочерченными многолетней пылью морщинами; в том доме-визави – на углу Большой Московсой и площади, – был «придворный» наш Гастроном, на углу Загородного, – «Чайная»…
А-а-а, соборную маковку высвобождают из кубического целлофанового футляра; оклеят сусальным золотом или облицуют благородной тёмно-коричневой медью?
Блаженство обленившегося зеваки: доверюсь любопытству, – посмотрю, о том, что задену взглядом, – подумаю.
Так.
В зале Гастронома лет с десять и, похоже, без проблем, торговала белорусской обувью «Саламандра», а за стенкой-то «Саламандры» что не сложилось? Солидная вывеска «Раффайзен Банка» отблёскивала небом над бывшей «Чайной», где оперировал ныне альпийский банк, но по витрине пробежал неряшливый росчерк кризиса – «аренда»; финансы спели романсы. Банк-то, выкупая бойкое место, озаботился каждым штришком холодноватого корпоративного лика: ноздреватую, с выщербленными краями, ступеньку – об эту историческую ступеньку, я, зазевавшись на колокольню, спотыкался, когда возвращался из школы, – накрыла, дабы не смущать клиентов, клюнувших на европейский лоск, тоненькая, опиленная и зашлифованная гранитная плиточка.
Стоило ли в двух шагах от метро и Кузнечного рынка менять шумную дымную «Чайную» с разношёрстным людом, забегавшимися официантками и жидкой солянкой в металлических мисках, на вылизанный альпийский банк? – по мне так шумела бы и дымила «Чайная».
Наивный вопрос, более чем наивное пожелание.
Австрияки-банкиры сматывают из-за финансовой непогоды удочки, а идеальная плиточка – выкидыш евроремонта, этой отверделой визуальной политкорректности, – остаётся?
Тенденция, однако.
Стандартно-стерильная мертвечина, пусть и по мелочам, таким, как гладкая плиточка, вытесняет естественные шероховатости?
Нет, дорогой философ, тонущий на мели, всё проще, – берущая верх, но не рассчитанная на тебя, зачищаемая под будущее без тебя, единственного и неповторимого, новая жизнь насаждает скользкие стандарты стерилизации, пресности и средней температуры по всемирной (псих) больнице, чтобы, – как здесь, сейчас, уберечь от шероховатостей и заусениц, – эгоистично нарекается тобою, проигнорированным, задетым невниманием к вкусам твоим, мертвечиной.