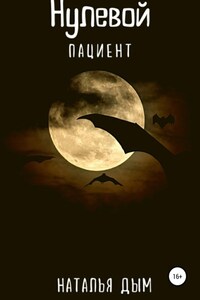Тик-ток, тик-ток – мерно отстукивали колёса поезда на стыках рельс. И сердце Спиридона вторило им: «Так-так, так-так». Весенний шалый ветер врывался в теплушки через открытые двери, выметая из вагонов мусор, смрад от десятков давно не мытых мужских тел и мысли из головы Спиридона. И он улыбался, бездумно и радостно, провожая глазами деревушки и полустанки, мрачные хвойные леса и весёлые берёзовые рощи.
Война закончилась ещё в октябре, но домой Спиридон возвращался только сейчас, весной двадцать третьего года. Да и не домой он ехал, а в Рамуйск, небольшой уездный городок в самом сердце бывшей Российской империи, а сейчас – юной и весёлой, как эта ранняя весна, страны Советов. Но хоть и в самом сердце находился Рамуйск, а такой тьмутаракани было ещё поискать. Глухой медвежий угол. Дел там для молодого командира Красной армии найдётся немало. Контру душить, порядок наводить – короче, защищать отвоёванную кровью народную власть.
А домой, к родителям в деревню, – успеется ещё. Хоть и не был там, почитай, пять лет уже. Как ушёл на Гражданскую в восемнадцатом, так ни разу и не виделся со своими стариками. И сейчас – не поедет. Не готов. И думать об этом – тоже пока не хочет. Всё – потом.
А пока – шальной ветер в лицо и весна, прекрасная, как девушка. И предвкушение чего-то если не хорошего, то интересного и озорного. Как в сабельной атаке, когда от весёлого куража заходится сердце, готовое выпрыгнуть из груди, и голова пустая и гулкая, и только радостное «Ура-а-а!» одним стройным могучим кличем раздаётся из сотен глоток.
Спиридон откинул с лица отросший смоляной чуб и сам не заметил, как стал негромко напевать себе под нос:
– Наш паровоз, вперёд лети.
В Коммуне остановка.
Другого нет у нас пути —
В руках у нас винтовка!
А потом – и не под нос, а во всё горло. И товарищи, сидящие, свесив ноги из дверей вагона, рядом с ним, дружно подхватили задорный мотив, и звонкая революционная песня перекрыла и перестук колёс, и шум шального ветра.
***
В Рамуйск поезд прибыл ранним утром, когда солнце окрасило всё вокруг себя нежным розовым светом.
Спиридон спрыгнул на перрон, напоследок пожав не меньше двух десятков ладоней товарищей, с которыми делил последние несколько дней вагон теплушки, красноармейский паёк и хмельной дымный самогон, купленный во время недолгих остановок на железнодорожных станциях.
Оглядевшись по сторонам, Спиридон поморщился. Нехорош был Рамуйск весной одна тысяча девятьсот двадцать третьего года. Ох, нехорош!
Перрон был завален мусором, здание вокзала щерилось разбитыми стёклами, и ветер, который в дороге был весел и свеж, тут зло и самозабвенно гонял подсолнечную шелуху и обрывки серой бумаги. Дело даже не спасали жёлтые солнышки одуванчиков, пробившиеся сквозь щели между досками перрона, и молодые клейкие листочки на привокзальных тополях. Разруха и нищета встречали Спиридона, приветливо скалясь беззубыми ртами пустых окон и дверей лавочек и магазинов, где уже успели поживиться мародёры.
Прохожих на улицах в этот ранний час было мало. Хмуро шагали мастеровые, кутаясь в серые пыльные куртки. Прошмыгнула молочница с корзинкой, уставленной крынками молока. Несмотря на конец апреля, была она по самые брови повязана замызганным клетчатым платком. И непонятно сразу – то ли молодая баба, то ли старуха древняя.
Но Спиридон унынью, что навевал на него негостеприимный и пыльный Рамуйск, не поддался. Не на того напал, собачий потрох! Перед белогвардейцами не склонял Спиридон чубатой головы, и перед заштатным уездным городишкой не склонит!
Закинув за плечи походный мешок и поправив половчее лямки, зашагал Спиридон вдоль заколоченных крест-накрест досками витрин галантерейных магазинов и цирюлен прямиков в центр города, где располагался городской Совет и уездный исполком, куда и направила Советская власть командира Красной армии для работы и службы на благо молодой республики.