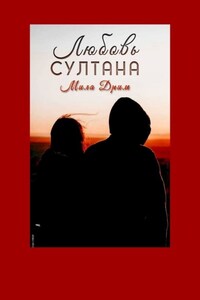В двери тронной залы постучали. Царь привычно быстрым движением засунул под сиденье пару лубков фривольного содержания, поправил корону и принял подобающий монарху строгий вид.
– Войдите!
Вошел незнакомый мужчина в строгого покроя кафтане, со свитком и пером в руке.
– Ты кто? – в недоумении спросил царь.
– Зимописец, Ваше Величество!
– Какой такой зимописец?
– Тот, который ведёт хроники в снег, бураны, на фоне сосулек и сугробов…
– Какие сосульки?! Какие сугробы?! – царь подскочил к посетителю, схватил его за ворот кафтана и подтащил к окну. – Вон! Деревья едва краснеть начали! Яблоки поспевают, жнецы в полях спины гнут. При чём тут ты? Где летописец?
– Так занемог он, Ваше Величество, да и сентябрь уж на дворе, как Вы правильно заметили.
– Ну, тогда где тот, который по сезону подходит?
– Фоллописец, Ваше Величество, ещё не нанят…
Царь побагровел.
– Что ты сказал? Ты во дворце, милейший, а не в публичном доме! Да я тебя…
– Ваше Величество, смилуйтесь! – поспешно перебил его визитёр. – Вчера на совете министров постановление о должностях выходило, так большинство решило, что «осеннеписец» звучит неблагозвучно. От английского слова «Fall», осень значит.
– И что теперь, непотребства разводить? А весной кто репортажи писать будет? «Спрингописец», может?
– Ну, да…
Лицо царя из багрового сделалось фиолетовым.
– Да вы что тут все, с ума посходили?! – прогремел он оперным басом. – Надо мной же окрестные государи потешаться будут, с такими-то должностями. Да я сейчас с тобой знаешь, что сделаю?! Паж! Головореза ко мне!
Паж в низком поклоне робко взглянул на царя.
– Ваше Величество хотели сказать палача?
Вместо ответа в него со свистом полетел скипетр. Ещё долго по дворцу разносились гневные вопли: «Мерзавцы! Тунеядцы! Подлецы! Только и знают, что даром хлеб есть да державу позорить, фоллописцы треклятые!»
Утро Дня Самодержца в тридесятом государстве выдалось хмурым. Деревья гнулись чуть ли не к земле-матушке под порывами ураганного ветра, а небо обложили свинцовые тучи, то и дело разверзавшиеся хлябями, всполохами да богатырскими громовыми раскатами.
– Ну, Горыныч! Ну, змеюка подколодная мутировавшая! – возмущению Ивана Ивановича Царевича не было предела. – Нашёл, когда резвиться! В королевстве праздник: намечены парад, шашлыки, салют в гавани, а он летает-громыхает! Друг называется… – Царевич извлёк из-под трона сотовый телефон и набрал три тройки. В трубке бодро заиграл «Полёт валькирий» и через минуту-другую прорезалось сдавленное сипло-булькающее трёхголосье.
– Хахехих, хэхо хы?
– Горыныч?!
– Аха, кха-кха…
– Простудился?! Заболел?! А я думал, это ты в небесах безобразничаешь!
– Хы ххо, х ума хохол? Пхохо мхе. Помихаю…
– Я тебе «поумихаю»! Держись, Змий! Скоро буду!
Через час к пещере Горыныча прибыл отряд скорой царской помощи, сопровождаемый полевой кухней и огромным бочонком на колесах с надписью «Не квас». Иван Царевич, спешившись, вбежал в пещеру. За ним последовали груженные снедью, дровами и одеялами солдаты. Змей страдал в уголке близ потухшего кострища, свернувшись в жалкий, дрожащий в ознобе клубок.
– О-хо-хонюшки! – крякнул Царевич. И бригада заработала. Вскоре больной лежал на копне сена, укрытый пуховиками. Крылья его облепили горчичники и трёхлитровые банки, а неподалёку пыхтела огнём портативная печь. Через некоторое время Змей ожил, открыл глаза, хлебнул из протянутой Иваном чарки горилки, настоянной леший знает на чём, и блаженно вздохнул.