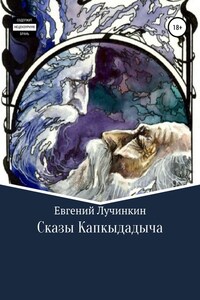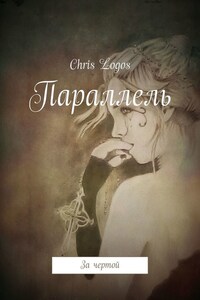Когда объешься огурцами, да ещё запьёшь их парным молоком, тебе, конечно, не до сурьёзных разговоров. Но знавал я одного мужика, который к огурцам ещё и редьки с луком добавит, а к молоку кваса, и хоть бы хны. На редкость крепкий был человек. Одно слово – от земли. Звали его Фёдором.
Помыкался Фёдор в городе, да что-то там ему не глянулось. И вернулся он в свою родную деревушку Пятаково, где осталось с десяток покосившихся от бесхозности хат. Не откладывая, устроился механизатором. Правда, в бригаде их всего двое было – он да Филимонов-бригадир. Тоже чудак добрый. Все совхозные давно в районный центр перебрались, где и газ, и горячая вода, а этот, упёртый, построил на отшибе добрый хутор и не дал в Пятаково сельсовет упразднить. Там же подвизался пахать двадцать пять гектар под пшеницу, да с пятнадцать силосных. Всё ж показатели.
Хозяйство своё Фёдор решил приводить в порядок ближе к осени, только поднял целые ещё ворота и направил калитку.
Как-то спит он в избе, и видится ему дедок, что заходит прямо сквозь стену, усаживается в его ногах на кровати, чего-то тихо при этом болбочет и со строгостью поглядывает на спящего Фёдора. Тот ногой шевельнул, проснулся, а старичок-то не пропадает. Сидит, маленький такой, весь бородёнкой обросший, и волосы у ней словно паутинки.
Фёдор со сна хмурый всегда, но тут на него нашла растерянность вместе с обморочной робостью.
– Ты хто такой?
Старичок цыкнул невидимым зубом.
– Спрос! Вот кто!
Фёдор подогнул ноги и помахал ручищей перед глазами.
– Домовой что ли?
– Кому домовой, а кому – чумовой.
Дедок боком подплыл к Фёдору и безбоязненно устроился у него на груди. Тот было попытался освободить руку из-под одеяла, а тело словно инеем подёрнулось, пошевелиться не может. Раз дёрнулся Фёдор, другой – ничего не выходит. Дедок-то всё ближе, вот уж у самого лица, и своим пахоточным дыханием веет, как душит. Разлепил губы Фёдор и с трудом прошептал:
– Чей же ты будешь, старичок? Уж не дед ли Пыхто?
Дедок вздрогнул и на мановенье растаял в воздухе, появившись из-за подушки.
– А ты откудова меня знашь?
Фёдору вроде как полегшало и задышалось легче.
– Бабка Кузьминична мне, малому, про тебя толковала.
Фёдор душой не кривил, но рассказы крёстной помнил смутно, говорил, только бы отвлечь внимание незваного гостя, да с размаху хватить его кулаком.
– Кузьминична, говоришь…
Выпуклые глаза домового затуманились и засветились охровым.
– Х-хыы. Поскакуха была хоть куда.
Фёдор даже поперхнулся, и забыл про ухищрения.
– Да ты о чём, запара? Она же в Покров пятнадцать лет как на погосте лежит. А может, щас и поболе?
Дедок вяло увернулся от освободившейся ручищи Фёдора, и, не обидевшись, отпрянул к печке, где задумчиво устроился на лавке.
– Эт как посмотреть. Я её, голубушку, токмо-токмо со свету отправил. Так последнее время с ней и коротали, покамест еёный домик совсем не разъехался.
Фёдор с облегчением потянулся и сел на край кровати, продолжая измерять глазом расстояние до лавки. Но дед Пыхто на его намерения никак не реагировал, спокойно жмурился на просыпающееся солнышко, словно был уверен, что в любой момент сможет скрутить этого бестолкового здоровяка.
– Чо, никак Кузьминична чисто в привидение превратилась?