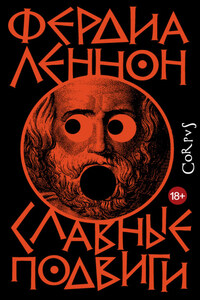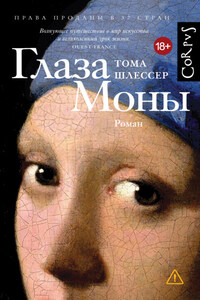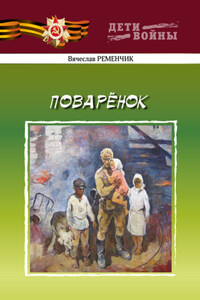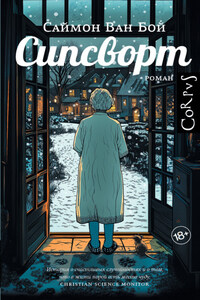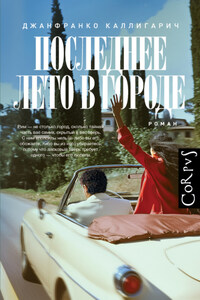И вот Гелон мне говорит:
– Пойдем покормим афинян. Как раз подходящая погода, чтобы кормить афинян.
Гелон правду говорит. Потому что солнце так и пылает в небе, белое и крошечное, и камни жгутся, когда идешь. Даже ящерки прячутся, выглядывают из-под камней и деревьев, как бы говоря: Аполлон, ты, сука, издеваешься? Так и вижу, как теснятся афиняне, как их глаза мечутся в поисках тени и как они ловят воздух пересохшими ртами.
– Правду говоришь, Гелон.
Гелон кивает. Мы берем с собой шесть мехов – четыре с водой, два с вином, – горшок оливок и две головы вонючего сыра, который делает моя мамка. О, прекрасен наш остров, и я иногда думаю, что теперь, когда мастерская закрылась, я мог бы все изменить. Что, может, я мог бы взять и уехать из Сиракуз и найти себе домишко у моря – никаких больше темных комнат, глины и красных рук, только море и небо, и когда я прихожу домой со свежим уловом за плечом, меня ждет она – кто бы она ни была, – ждет и смеется. Я слышу этот смех, и он такой нежный и хрупкий.
– Эх, Гелон, как же мне сегодня хорошо!
Гелон смотрит на меня. Он красив, и глаза у него цвета моря на мелководье, освещенного солнцем. Не цвета дерьма, как мои. Он открывает рот, но ничего не говорит. Ему, Гелону, часто грустно – он будто видит мир сквозь дымку, никакой яркости. Мы идем дальше. Хотя афиняне раздавлены, их корабли пустили на растопку, а их непогребенных едят собаки, гоплиты все равно делают обход. На всякий случай. Не далее чем вчера Диокл сказал, что с этими афинянами никогда не угадаешь: со дня на день жди новых отрядов. Может, он и прав. Спартанцы почти все ушли. Говорят, они направляются на самые Афины, приготовились их осадить как следует. Закончить войну. Но некоторые еще болтаются. Они скучают по дому, и пользы от них никакой. Как раз четверо идут перед нами, и красные плащи тянутся за ними кровавым следом.
– Доброе утро!
Они оглядываются. Только один отдает честь. Наглецы они, спартанцы, но мне сегодня хорошо.
– Долой Афины!
Теперь отдают честь двое, но как-то без искры. Они усталые и грустные, прямо как Гелон.
– Я вот что скажу: Перикл – козел!
– Лампон, так Перикл же умер.
– Ну да, Гелон, помню. Так я вот что скажу: Перикл – дохлый козел!
А теперь двое спартанцев смеются, и все четверо отдают честь. О, какой же я сегодня довольный! Не знаю, как объяснить, но чувство славное. Лучшие чувства – такие, которые не объяснишь. А мы еще даже афинян не покормили.
– В какой карьер сегодня идем, Гелон?
Мы стоим на развилке, так что надо выбирать. Гелон размышляет.
– Лаврион? – наконец говорит Гелон.
– Лаврион?
– Ну, думаю, да.
– Лаврион!
Идем налево. Лаврион – так теперь называется главный карьер. Кто-то подумал, смешно будет его называть в честь того самого серебряного рудника в Аттике, благодаря которому у афинян нашлись средства на вылазку. Ну имя и пристало. Это огромная яма, а вокруг нее скалы из молочно-белой извести, такие высокие, что только в одном-двух местах забор понадобился. У одного из них ворота, там два стражника расселись себе на земле, в кости играют. Гелон дает им мех с вином, и они нам машут рукой, чтоб проходили. Тропа вниз извилистая, такая, что того и гляди ногу сломаешь. Гелон, когда на него находит муза, говорит, что она “как змей извивается бурый”. Афинян мы еще не видим, но уже чуем. Тропа такая кривая, что мешает разглядеть весь карьер, но запах тот еще: густой, гнилой, в воздухе от смрада почти туман. Я останавливаюсь – глаза слезятся.