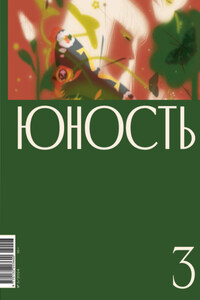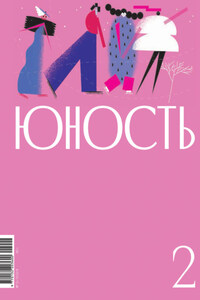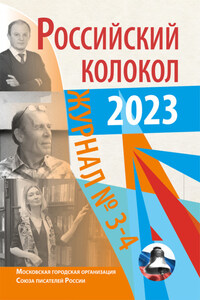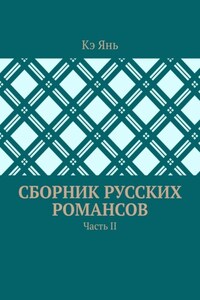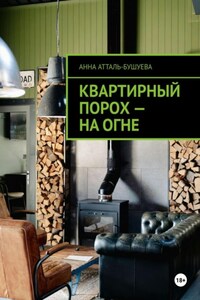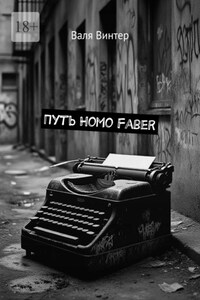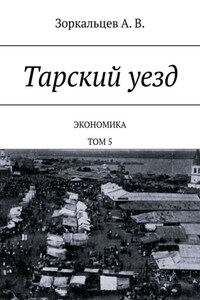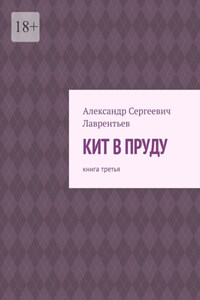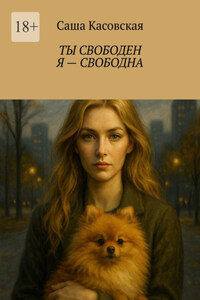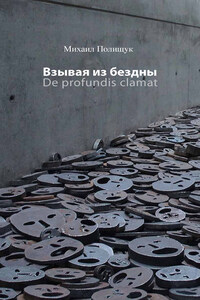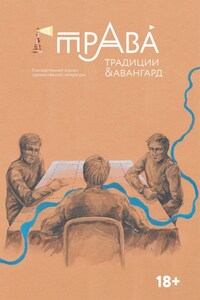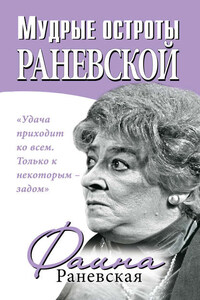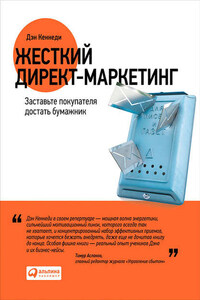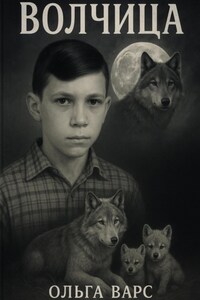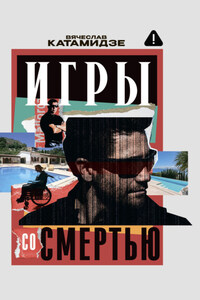Принято считать, что Куба близка россиянину и по ряду исторических причин россиянин испытывает к Кубе особые чувства, более теплые, чем к Латинской Америке в целом.
В течение трех десятилетий (60-е, 70-е, 80-е) Куба и СССР находились в близких отношениях: это касалось политики, экономики, общественной жизни, образования, культуры, быта и сферы человеческих привязанностей и ценностей. При этом та кубинская литература, которая доходила до советского читателя, составляла лишь часть – сравнительно небольшую – общего поля национальной словесности. Заявив в речи 1961 года «Слова к интеллектуалам»: «В Революции – все; вне Революции – ничего», Фидель Кастро разом «умножил на ноль» не только обширную эмигрантскую литературу, но и ту, что продолжала создаваться внутри страны неангажированными авторами. В СССР переводились – почти исключительно – кубинские тексты, попадавшие в зону «в Революции».
К концу 80 – началу 90-х отношения Кубы и СССР приняли иной характер. Кубинские власти (в отличие от народа) крайне настороженно отнеслись к новым русизмам perestroika и glasnost и объявили о начале периода «исправления ошибок и отрицательных тенденций», оберегая островной социализм от неоднозначных веяний с братского Востока. А чуть позже распад Советского Союза и вообще социалистического блока вверг Кубу в тяжелейший кризис, обозначенный Фиделем Кастро в 1990 году как «Особый период в мирное время» и отмеченный резким падением и без того невысокого уровня жизни, ростом преступности и новой волной массовой нелегальной эмиграции. По эту сторону океана положение дел также не располагало к расцвету культурных связей. Куба для нас «умолкла». На излете 80-х успел появиться составленный Борисом Дубиным и Синтио Витьером том Хосе Лесамы Лимы, в 90-е доносились отголоски испанского «кубинского бума» – романы Зое Вальдес, – но общая картина стала еще менее полной, чем в советскую эпоху. Показательно, что в журнале «Иностранная литература» с 1988го по 2002 год не было опубликовано ни одного кубинского произведения.
Тем временем многоликая кубинская литература бурно развивается как на острове, так и за его пределами, осмысляя последние полвека истории страны – несостоявшуюся утопию, непревращение кубинца в Нового Человека, тупики «интернациональных миссий», выживание 90-х, – время от времени впадая в «Остальгию» (немецкий термин, обозначающий ностальгию по социалистическому – «восточному» – прошлому, который можно экстраполировать на кубинскую действительность), перекраивая национальный литературный канон, иногда заговаривая по-английски, преклоняясь перед гениями, забытыми официальной культурной политикой, или не преклоняясь ни перед кем, задаваясь вопросами. В постсоветском литературном процессе Кубы успели обозначиться поколения, течения (например, так называемый грязный реализм), прагматические позиции авторов, ориентирующихся на внутренний или международный издательский мир, и все это движение крайне интересно и в какой-то мере поучительно для постсоветского читателя, в том числе и русскоязычного. Разумеется, невозможно представить в одной журнальной книжке все разнообразие новой кубинской литературы. Впрочем, если чему-то и учит кубинский опыт постреволюционной эпохи, так это тому, что пространство (художественное в том числе) бесконечно глубоко в своей ограниченности. Одного столика в кафе-мороженом достаточно для свершения судеб, а путешествие из центра в пригород можно откладывать всю жизнь – и прожить ее с шиком. Персонажи романа и почти всех рассказов, составляющих номер, живут в Гаване по соседству друг с другом, но в совершенно разных мирах – это заметно даже по тому, как в каждом произведении решается проблема борьбы с тотальным дефицитом. С другой стороны, особенность постреволюционного кубинского мировидения – ощущение себя частью бывшей «империи»: этой проблематики касается, например, книга Мигеля Анхеля Фраги о СПИДе на Кубе: командировки интернациональных миссий помощи борющимся народам Африки имели и такие последствия, как описанный в документальном расследовании санаторий для ВИЧ-инфицированных.