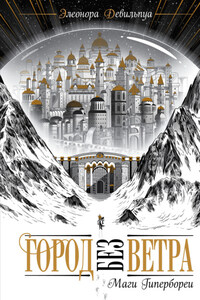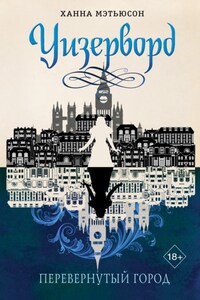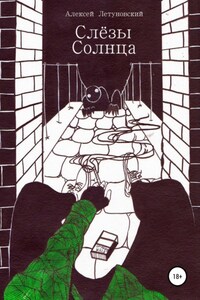
Слёзы солнца
Странная, непонятная, необычная, больная. Повесть о людях, живущих и умирающих в фэнтезийном заболевшем мире, непонятном и странном.
| Жанры: | Городское фэнтези, Эротическое фэнтези |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2021 |
Читать онлайн Слёзы солнца
Книга заблокирована.
Вам будет интересно