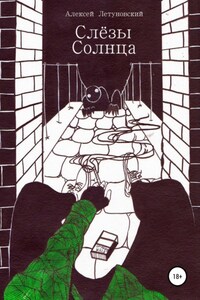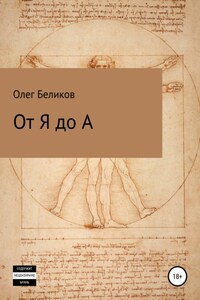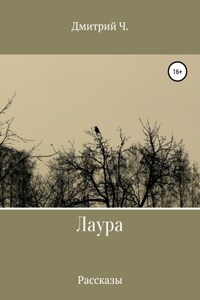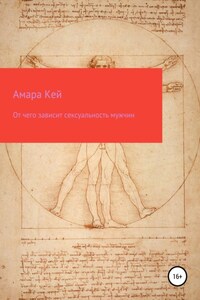Конец света
Шесть историй про людей, которые приходят к своему концу, несмотря на конец света. Содержит нецензурную брань.
| Жанр: | Современная русская литература |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2021 |
Читать онлайн Конец света
Книга заблокирована.
Вам будет интересно