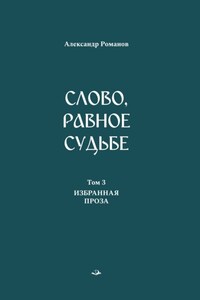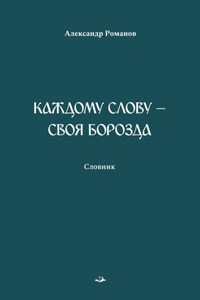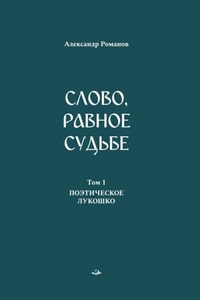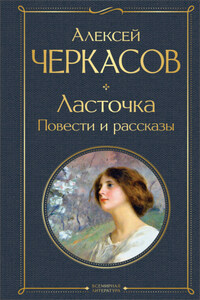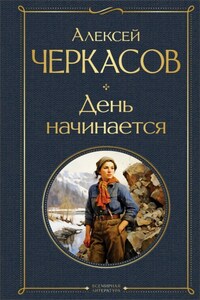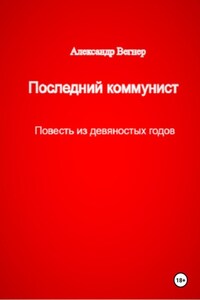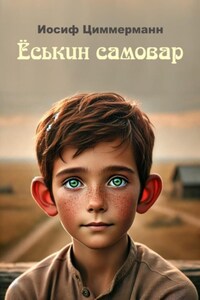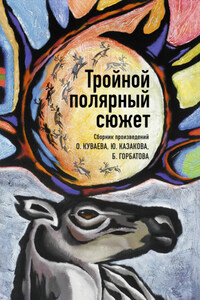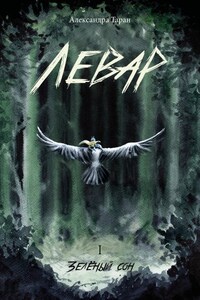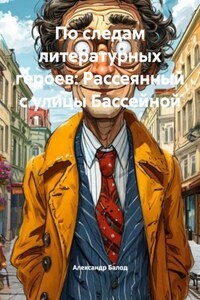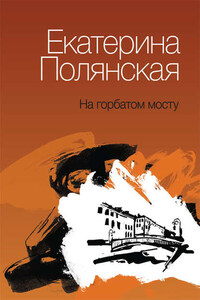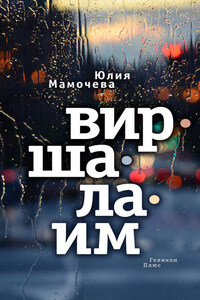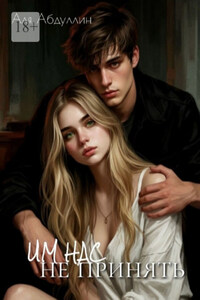«Дивлюсь мудрости жизни, для большинства живущих не понятной вовсе. Да и мне открылась она, наверно, лишь потому, что никогда я не опережал «самого себя», то есть не нёсся в житейском потоке сломя голову. Я жил и живу так, как думал и думаю: мысль моя возникала как удивление каждодневной новизной мира. Ничего не повторялось и ничего не терялось – вот диво-то! – и становилось совестью…»
Это, на мой взгляд, одно из самых глубоких размышлений А. А. Романова. Он «дивился мудрости жизни», а нам впору удивиться мудрой прозорливости самого писателя-философа, который кратко, несколькими словами – «всё становилось совестью» – объял судьбу всечеловеческую, прозрел высший нравственный смысл всех радостей и скорбей быта и бытия человека. Это уже какая-то иная, метафизическая, небесная высота мысли… И, чтобы подняться на эту высоту, понадобилась вся его земная жизнь, его земные радости и скорби…
Писатель родился в далёкой деревне Петряево 18 июня 1930-го, «переломного»[1] года, а ушёл из жизни в Вологде 5 мая 1999 года, когда, после развала огромной страны Советов, уже сама Россия вплотную подошла к черте, за которой мог начаться ещё более великий «перелом» всей её государственности.
Он, безусловно, очень сильно переживал, вспоминая те, давние, «грозовые» и предчувствуя надвигающиеся роковые события в будущем: «Русский народ – судьба моя! – выстоит ли он в ХХI веке?..»
Дожить бы до двухтысячного года
И с высоты веков взглянуть на Русь!
– Душа болит: разлад среди народа.
Я разнопутья нашего боюсь…
Писатель не дожил до этого срока ровно один год, ушёл, не застав время нача́ла возрождения своей любимой Родины. Но сделал самое главное: за свою трудную и счастливую жизнь, он, «удивляясь каждодневной новизне мира», создал более 20 полноценных художественно-философских книг стихов и прозы.
Он много сделал в советской и российской журналистике. Изъездил с командировками чуть ли не полстраны. Стал лауреатом Премии имени А. Яшина, был награждён Орденом «Знак Почёта». Много лет, переняв в своё время эстафету из рук А. Яшина и С. Викулова, работал ответственным секретарём Вологодской писательской организации, подняв её – вместе с друзьями и творцами-единомышленниками – на очень высокий художественный уровень, что привело к появлению в советской литературе такого мощного самобытного феномена, как «вологодская школа»[2]. Сейчас трудно сказать точно – есть она, эта «школа», или её нет, но одно было ясно: «…И по миру катится молва, / Что за вологодскими лесами / Вырастают спелые слова…» Так, восхищаясь глубиной родного языка, утверждал А. Романов.
Долгое время он был активным участником редколлегии журнала «Север», членом Ревизионной и Приёмной комиссий Союза писателей СССР. Дал дружеское напутствие многим современным российским поэтам, прозаикам и журналистам, детально, с подробными пояснениями разобрав их «пробы пера».
И всё же главным было его литературное творчество, страстное желание мудрым русским Словом утвердить Жизнь. И учителя-наставники, и друзья – поэты, музыканты, художники, и читатели из разных уголков России высоко оценили это творческое устремление автора, почувствовав в его лучших художественных произведениях щедрое тепло его души и свет утверждающей мысли.
Вот как сам писатель, прислушиваясь к себе, объяснял возникновение этого загадочного и всеохватного предощущения творчества:
«…Лишь в душе, лишь в ней одной, да и то как-то в тайне, невыразимо, тлеет всё же грустный обогрев надеждой… И когда занимаешься поэзией, когда вдруг почувствуешь ещё не словом, а каким-то тайным и немым веяньем её приближение к моей душе – вот тогда озаряешься наитием, что есть, есть, есть сила для радости и надежд не только в твоей исповеди, а и вообще в самом вечном круговороте жизни. Может быть, поэтому и в стихах у меня так много света…