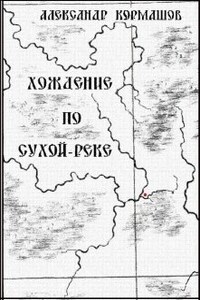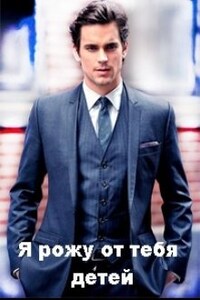Летом девяносто четвёртого, едва вернувшись из армии, я заглянул
на работу к Лёше. Хотел повидаться с другом и заодно подарить один
из своих трофеев — солидный кусок мамонтового бивня. Тот был полый,
и внутрь я засунул бутылку водки. Думал, это будет смешно.
Я шёл от дома пешком, по Кутузовскому проспекту, сначала мимо
гостиницы «Украина», затем через Калининский мост. Белый дом уже
ремонтировался, но копоть была ещё видна. Здание бывшего парламента
представлялось куском колотого сахара, который дети попробовали
пожечь спичкой, а потом все стали отнекиваться, прятать обожжённые
пальцы и валить вину друг на друга. На пешеходном переходе меня
чуть не задавил автокран — во всяком случае я узрел тень стрелы над
головой. Водитель оказался гневливым, и мы слегка пообщались.
Вокруг всё было старо, как мир. Лишь Новый Арбат обновлялся
какими-то новыми вывесками да не виданной прежде рекламой, но
прежними оставались каштаны, которые, помнится, в ночь выпускного
бала были ласканы, как берёзки.
Здание бывшего союзного министерства, несмотря на архитектурную
мощь, внутри выглядело каким-то испуганным и притихшим. Сидящий на
вахте милиционер оказался заикой. В коридорах, на красных ковровых
дорожках, потёртых и даже рваных, лежал заметный слой пыли, вполне
отчётливый, чтобы обозначить наиболее хоженые тропинки. По одной из
них я дошёл до нужного кабинета.
Не успели мы сесть, как в дверь уже постучали.
— Ну, опять, — сказал Лёша. Путь из-за стола к двери он проделал
с томлением бюрократа, который никому ничего не может доверить.
— Вы кооператив «Пролог»? — кто-то приглушённым голосом спросил
через дверь.
— Консультативный центр, — мрачно поправил Лёша.
— Это велели вам. — В щель просунулась рука с сеткой.
Лёша молча взял сетку и прикрыл дверь. По пути к сейфу он рылся
во всех своих карманах, пока не нашёл большую связку ключей. Не
знаю, будь у меня в кармане такая груда железа, я бы помнил о ней
каждую секунду — просто в силу смещения центра тяжести тела.
То, что Лёша засовывал в сейф, допотопный, громоздкий, неизбывно
сургучного цвета, оказалось деньгами, обыкновенной авоськой с
пачками денег, замаскированных газетой. В некоторых местах газета
уже прорвалась, и уголки пачек протискивались в её дыры, как рыбы в
ячеи сети. Нижние рыбины были сдавлены и не шевелились. Верхние,
перехваченные резинкой, ещё бились разлохмаченными хвостами.
— Тебе не надо? — спросил меня Лёша, вытаскивая одну пачку, и,
когда я ошарашенно покачал головой, тут же бросил её назад, а затем
быстрым движением вытер пальцы о штанину. Вернувшись за стол, он
снова взял в руки бивень мамонта и продолжил изучать мой
подарок.
Какое-то время мы сидели молча. Я — потому что мне ещё никогда
не предлагали так много денег, он, вероятно, в силу причастности к
большой экономике. Об этом говорил и портрет основателя
социалистической индустрии, висящий над ним на стене. Но Куйбышеву
словно больше не было дела, что творилось в эти дни в министерстве.
Предсмертные его глаза, кисти Бродского, просто смотрели куда-то в
сторону и в себя. Мне кажется, я догадывался, почему Лёша оставил
эту картину. Он с детства любил казаться солиднее и взрослее, чем
был на самом деле (как минимум, взрослее меня, и, как минимум, на
тот год, на который он был действительно старше). Зато сейчас, в
кабинете, ему не приходилось даже казаться. Возраст его ощущался по
костюму, вполне достойному лишнего инфляционного миллиона, и даже
по стрижке, такой же короткой, как у меня, но выполненной рукой
другого мастера-стригаля.
Бутылка застряла в бивне и не вытаскивалась.
— Ладно, спасибо, — наконец поблагодарил Лёша и убрал бивень в
стол. — Знаешь, я тут немного занят, а ты пока иди. Тут внизу
открыли кафешку. Забей нам столик, а я сейчас приду. — И он взялся
за трубку одного из двух телефонов (того, что без циферблата). —
Деньги у тебя есть?