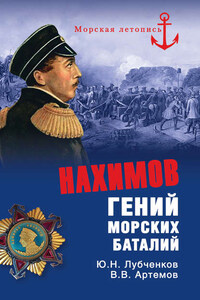1780 год.
Дорога между Уралом и Барнаулом.
— Ну, гони! Гони — же! — мужественный и сильный, как
расплавленный металл, голос молодца прорезал зимний морозный
воздух, который застылый на заре, в туманной дымке. – мы должны
успеть домой к Новому году!
Почтовые сани тронулись рысью от станции по Сибирскому
тракту.
— Дмитрий Михайлыч, не понужай, успеем! — отвечал ему пожилой
ямщик, — Дмитрий Михайлыч: передохнули — бы на станции, вишь,
сколько дней уже не пимши, не емши[1], — сказал ямщик, когда они
выезжали ни свет — ни заря с очередной станции, так как гнали уже
несколько дней почти без передыху.
— Ай, Епифан, гони, гони! Когда отдыхать? У меня жизнь на кону!
Скорее — же гони! Скорее на Восток! — нетерпеливо сверкая глазами,
восклицал молодой офицер.
Тот, кого ямщик называл Дмитрий Михайлыч, высокий, крепкий
парень, ладный собою. Ухарь: овчинный тулупчик на груди нараспашку,
глаза горят огнем, сам так и пышет жаром!
— Эх! Кабы мог — так бы, как птица и полетел! — восклицал ездок,
стоя во весь свой рост на санях и заламывая шапку на затылок.
Ямщик только заулыбался себе в бороду, одобрительно кивая и чуть
подхлестнув вожжами, воскликнул: «Но!», постепенно разгоняя
коней.
— Ох, удалой же ты парень! Так гонишь уж сколько дней! Так летим
ужо, летим!
Известное дело: бойче русской тройки ни одна птица не летает!
Верховой: и тот не сможет мчать так быстро. Верховой не проделает
столько верст без устали, сколько тройка.
— На почтовых — то любо-дело! — ответил ямщик, крепкий,
степенный мужчина с ухоженной бородой, которая придавала ему
солидности, и делала схожим с тем самым, сказочным зимним Морозом —
воеводой.
Недаром опытный ямщик сказал про почтовых коней: рысаки
поистине, не знают устали, крупные, резвые кони, с тонкими сухими
ногами, рослые и легкие — они не только резвы, но и не устают на
долгих верстах нескончаемых дорог, таких, как Сибирский Тракт.
В сани запряжена тройка русских рысаков: серые в яблоки кони!
Коренник: крупный, с золотисто — белою гривою конь, с крепкими
желтыми копытами и тонкими, сухими ногами равномерно отстукивает
рысью по твердому зимнику, гордо подняв голову, словно он на бегах.
Пристяжные тоже серые[2]: одна — с черною развевающейся гривою,
вторая — с белыми хвостом и гривою: круто выгибают шею, скачут
классическим галопом — славная тройка[3]!
А кругом — снега! Снега, как сахар, как рассыпанная по полям
мука!
На голове Дмитрия не цивильная треуголка, а лохматая шапка —
ушанка, чуть не на волчьем меху, серая, пушистая, зато греет.
Сани гнали бойкой рысью по заснеженным полям, по снежному
простору. В санях всего один ездок, и тому не сидится. Под тулупом,
распахнутым настежь, видна красная форма горного офицера[4].
Наш кавалер — ибо в 18 веке, его следует именовать именно
кавалером, — обращение, вышедшее из разговора уже в 19 столетии,
вооружен несколькими пистолетами и пистолями, что воткнуты за
широкий пояс — кушак, перетягивающий стан воина. Путь — долгий, на
недели, может даже на месяцы пути, многое может произойти. Особенно
стали опасны поездки в Сибирь с тех пор, как придумали сделать ее
местом для ссылок всех преступников[5], нехорошо — но так стали
поступать.
Тянутся дни и версты. А кругом — однообразная белая равнина.
Поля и поля!
Неугомонный кавалер снова вскочил на ноги. Схватил за плечи
ямщика, размахивая рукой, что — то начал громко говорить,
доказывать.
— Да ты пойми, ты пойми! Епифан, что мне время сейчас нельзя
терять — ни одной минуты! Успеем ли, успеем?
Нужно успеть к назначенному сроку. Если опоздаю к назначенному
часу хоть на минуту! Хоть на один миг: все! Моя жизнь кончена!
Восклицал юноша, одновременно с горячечным молодым жаром, и в
следующую секунду столь трагически — отчаянно, что любое, даже
каменное сердце бы дрогнуло. А ямщик был мужик основательный,
отнюдь не каменный, и ездок пришелся ему очень по душе: надо
пособить человеку, как не пособить!