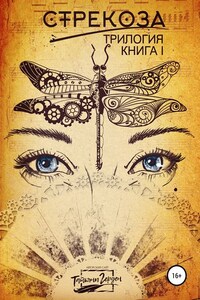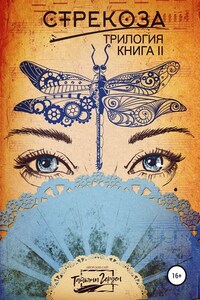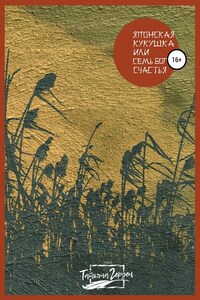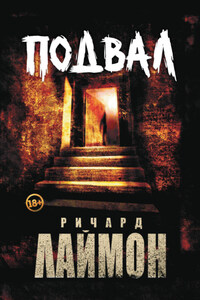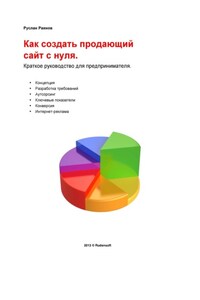У Cевки Чернихина брюки на угловатых бедрах сидели так низко, что, когда он шел, рубашка, как бы глубоко под тяжелый широкий ремень он ее ни заправлял, все равно через некоторое время выпрастывалась наружу, и, устав на ходу запихивать ее под ремень, он так и ходил с полами навыпуск из-под темно-зеленого твидового пиджака, ладно облегающего его поджарое тело.
Впрочем, при всей небрежности такого вида, дополненного длинным малиновым шарфом, ни одна девица, в поле зрения которой он попадал, не могла пройти мимо, не зазевавшись и не свернув шею, или хотя бы просто пройти, не отметив про себя, что он, Севка, чертовски привлекателен. Хотя разглядеть к тому времени она успевала только три детали: низко посаженные брюки, то и дело выползающую рубашку и походку, немного ленивую и вместе с тем заковыристую, как будто ноги у него чуть длиннее, чем надо, и поэтому ему приходится их слегка подтягивать при каждом шаге, чтоб самому об себя не споткнуться.
Под мышкой Севка часто держал старомодный портфель – потертый, но, похоже, из настоящей кожи, а не из дерматина. На ногах – коричневые замшевые туфли со шнурками такого же цвета, почему-то очень смахивающие на обыкновенные кеды, которые всегда можно было приобрести в «Спорттоварах» по улице Свердлова за двенадцать рублей сорок девять копеек.
Ходил он так и весной, и летом, и даже осенью, лишь чуть поднимая воротник, если моросил дождь или, скажем, дул порывистый ветер. Картина менялась только к декабрю. Ближе к зимним холодам зеленый пиджак сменялся на более плотный, почти черный, чесучовый, похожий на пальто с длинными полами, которые все равно позволяли заметить неровные углы рубашек. Низко, почти на самые темно-серые глаза, Севка напяливал серую, в тон глазам, в темную крапинку кепку, открывавшую посторонним взглядам дерзкий, чуть скошенный затылок. А в остальном вид был такой же, как и летом: джентльменский и одновременно биндюжный. Неудивительно, что встречные дамы озадаченно поднимали брови, дивясь магнетической притягательности несуразного прохожего, а знакомые девицы тихо сходили с ума.
Днем Севка учился в музыкальном училище по классу контрабаса, а вечером три раза в неделю чистил паровые котлы на ремонтном заводе имени Розы Люксембург. По выходным развлекался тем, что играл с парой-тройкой приятелей в преферанс, а когда это надоедало, сочинял музыкальные композиции. Замысел его всегда был сложен, а то, что получалось – изящно и просто. Их мог сыграть на струнах нескольких смычковых инструментов любой сопливый первокурсник.
Еще Севка умел, когда сильно хотел, приударить за дамами. У него мастерски получалось изобразить лихорадочный, блуждающий взгляд несчастного влюбленного, мечтательно косящий куда-то в сторону. Он беззвучно двигал уголками рта – и барышне казалось, что он не находит нужных слов, чтобы выразить переполняющие его чувства. Барышня делалась снисходительной и благосклонной, после чего, как правило, попадалась на Севкину наживку, как рыбка на крючок.
Но особенно удавался ему номер с портретом. Во время романтического ужина в кафе он, небрежно отодвинув тарелку, вдруг хватал салфетку и невесть откуда появившимся вечным пером быстро набрасывал профиль своей визави.
Этому он учился долгих два года, с седьмого по девятый класс ходил после уроков в кружок к талантливому, но, увы, спившемуся художнику Матвейчуку, который по совместительству работал еще и школьным сторожем. Всю жизнь Денис Матвейчук писал женские головки и пейзажи с райскими птицами, такими яркими и живыми, что казалось, головки вот-вот заговорят, а птицы расправят расписные перья, начнут истошно кричать, как павлины на восточном базаре, и упорхнут с холста.