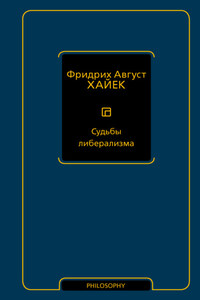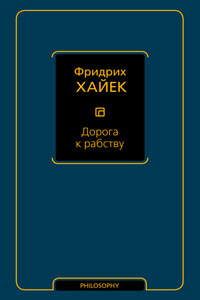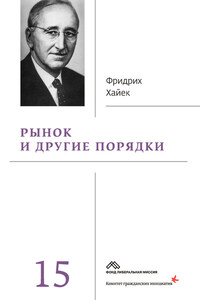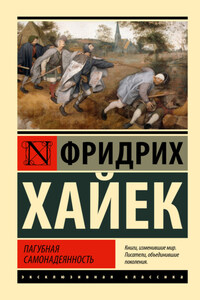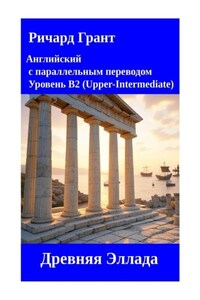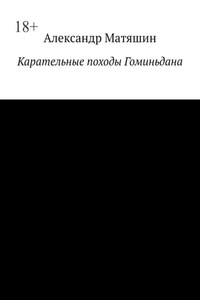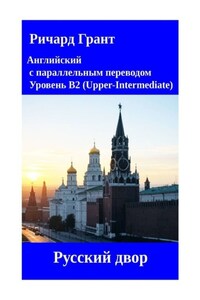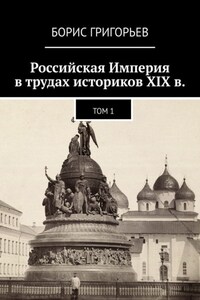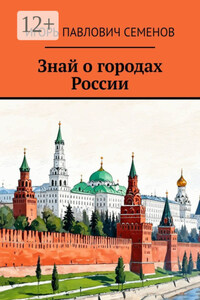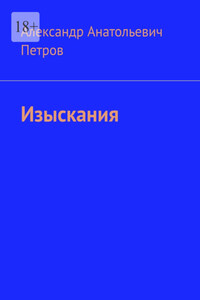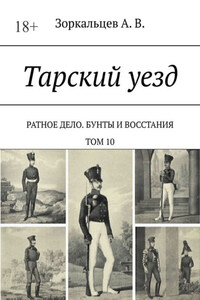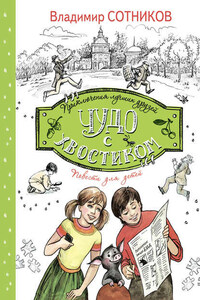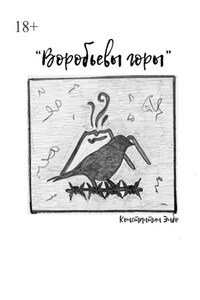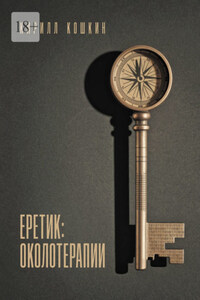I
Собрание сочинений Ф. Хайека – плод не столько замысла, сколько понимания У. У. Бартли III, что полноценно вникнуть в суть мыслей автора можно, лишь наиболее полно представив его сочинения в новом виде, со сносками и ссылками. Хайек еще ранее предоставил в распоряжение Бартли все свои работы, чтобы тот взялся за его биографию, на что Бартли, естественно, согласился. В результате получилась данная серия. Они много и долго беседовали, обсуждая Поппера, Витгенштейна, Вену, и Хайек понял, что у Бартли действительно сложился специфический образ города, где он родился и провел юность. В свою очередь, Бартли, глубоко проанализировав целый ряд работ Хайека, пришел к выводу, что современные мыслители знакомы с его идеями в лучшем случае очень фрагментарно, а в худшем – не знакомы, что весьма прискорбно. Как английские последователи Людвига Витгенштейна почти ничего не знали о его жизни в Австрии, пока Бартли об этом не написал, так и американские и английские читатели Хайека почти ничего не знали о ранних его работах, написанных в Германии. Даже экономисты по большей части перестали читать работы Хайека по теории экономики и полностью отвергли его идеи насчет теорий восприятия и пополнения знания. Ни одна из работ Хайека не выбивается всецело из общего ряда, но теперь, помещенное в исторический, теоретический и критический контекст (благодаря результативному труду редакторов), его собрание сочинений обеспечивает бесценный опыт в сфере, которая описывает – ни больше ни меньше – развитие современного мира.
Представленное новое собрание сочинений – «Судьбы либерализма: статьи по экономике Австрии и идеалу свободы» – это четвертый том собрания сочинений Хайека и третий в порядке выпуска. Особенный интерес вызывает впервые опубликованная статья «Экономика 1920-х: взгляд из Вены» и статья «Возрождение идеи свободы: личные воспоминания», впервые опубликованная на английском. Также впервые публикуется Приложение к первой главе, а впервые на английском языке – третья и седьмая главы, а также некоторые части четвертой и шестой глав. Остальные главы (за редким исключением) находились не в прямом доступе и собраны здесь впервые.
II
Многое изменилось в мире с момента зарождения идеи этого издания. Падение Берлинской стены – драматическое и символическое событие, которое давно предвосхитили в своей критике социализма Хайек, Мизес и их последователи. Доводы Хайека, теперь уже неопровержимые, могут выступить неким пробным шаром в новом исследовании эволюции расширенного порядка. Значительный интерес для специалистов по Хайеку, которые хотят узнать, как именно развивались его идеи (с точки зрения постановки решаемой проблемы), будут представлять статьи об учителях и коллегах Хайека. Кого-то, возможно, поразит, что в третьей главе предстанет молодой Хайек, описывающий в 1926 году «самую важную экономическую проблему – законы распределения доходов». Даже тогда уже звучали намеки на то, что эти «законы» окажутся всего лишь предгорьями, за которыми можно будет разглядеть широкий спектр неизведанных трудностей. Так, Фридрих фон Визер, учитель Хайека, пишет: «Отныне моей мечтой стало написать анонимную историю. Однако и это ни к чему не привело. В экономической деятельности проявляются наиболее очевидные социальные отношения, и, прежде чем даже подумать о том, чтобы исследовать более глубокие, скрытые отношения, необходимо было прояснить сначала именно социальные».
Все статьи данного издания объединяет вопрос о месте истории в социальной эволюции и о роли, которую историки играют в становлении нашей национальной идентичности. Подобно повторяющейся ритмико-мелодической фигуре, эта тема звучит в самом начале эпохального спора Менгера с немецкой исторической школой Methodenstreit о том, возможно ли открыть законы истории, объясняющие, предсказывающие или определяющие судьбы наций. Великая трагедия двадцатого века заключалась в монстрах-близнецах, социальных катастрофах нацистской Германии и советского коммунизма, которые доказали: если история не «чушь» (знаменитое односложное выражение Генри Форда), то историзм не только ошибочен, но ошибочен опасно. Ясно, что судьба либерализма зависит от объективности историков (к числу которых Хайек причисляет всех исследователей социальных явлений) и «возможности существования истории, которая не пишется в чьих-то конкретных интересах».