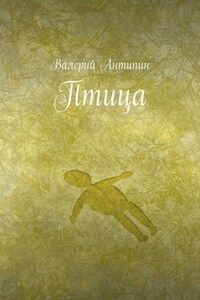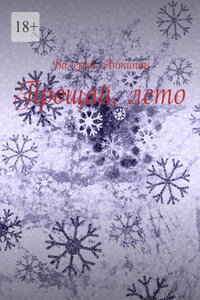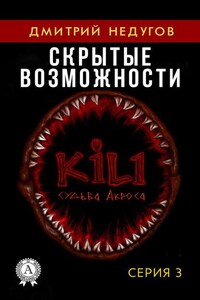Южная область.
Да! Это он. Он затеял и сотворил. Любуясь результатом, видел, как забрасывают тела в тягач. Видел, но не все. Их было четыре.
– Вероятно, – с оскалом прошипел Мирон.
Злорадно и довольно ухмыльнулся. Почесал лоб, обтёр лицо, будто сдирал отслужившее и ставшее ненужным притворство.
«Относительно, вероятно, прочий бред. Словечки. Что может быть глупее. Продумано и сделано. От тумана к предметности. Просчитано до мелочей. На них не особо обращают внимания, но именно они способны перевернуть незыблемое и непонятное. Именно они. Не удача, а мелочи. Из них строится что-то фундаментальное. Избавься от одной и рано или поздно исчезнет остальное. Скидка десять процентов на случайности. Не иначе. Никаких «если» и «но».
Мирон фыркнул. Троих не грузили.
«Завалило. Сгорели. Их нет. Нет, нет», – успокаивал он себя.
– Теперь я претендент. Один. И у меня достояние группы, которой уже всё равно. Возражения… Кто за, против! Чего не сделаешь ради личного процветания, – процедил Мирон, поморщив нос.
Он не чувствовал вины или радости, давно отказавшись от чувств. Никчёмного для него балласта. Ещё в те дни. Дни, когда в охваченном огнём и пожарами городе, Мирон провёл двое суток в каменном склепе. Заваленной со всех сторон бетоном комнатушке с десятком умирающих от ожогов, так и не спавшихся людей. Он навсегда запомнил их мольбы, исповеди, а потом проклятья. О глотке воды продлившей часы мучений, похоронив в нём сострадание. Навсегда.
Закрыв глаза, он иногда опять попадал в каменную клетку, куда не проникал солнечный свет, а неприступные стены, ограничив площадь, тянулись куда-то ввысь и терялись во мраке. Клетку, где дёргали чьи-то руки, а губы шептали последние слова. И не было в них обещаний и просьб. Не было упрёка.
Забившись в угол, Мирон сидел, обхватив колени, глазея на черноту боясь шевельнуться, окружённый обречёнными тенями. Они метались в истерике, ковыряя бетон. Ходили, скулили и плакали. О чём-то просили,
но он не вникал, что бормочут требуя тени. Хотят от него, потерявшего контроль над собой и скованного страхом.
– Мальчик! Мальчик…, – звали тени Мирона, жавшегося к кромке трубы выпирающей из стены.
Их становилось меньше и меньше пока не осталось совсем. Жажда, мрак и заточение, какое-то дикое не мыслимое стечение обстоятельств. Увядающая сентиментальность, которой не было места в заполненном трупами помещении. Чернота. Она молчала. Молчал и он. Они как будто сговорились о своём, подписав молчаливое согласие.
Мирон практически бессознательно, чтобы хоть чем-то себя занять и успокоить, расчистил край круга трубы от глины и щебня. Выгребая из неё что-то колючее и острое, он не думал, ни о чём не рассуждал. Он только проворно работал слабыми, худыми ручонками и для него это было достаточно. Самым важным, необходимым действием, чтобы не дать страху вновь завладеть собой, запаниковать, превратиться в тень. Ныть и долбиться о каменные решётки, которые никто и никогда не откроет. Затем он влез в вырытое им углубление, свернулся калачиком, пролежав так какое-то время. Смрад и горечь во рту, завывания трубы становились привычными. Становилась привычной и темнота.
Отдохнув, Мирон поклялся, что выберется наперекор теням, тем, кто наверху и смерти. Поелозив, стал углубляться, освобождая проход от всего, что мешало продвижению. Он сжимался, вытягивался и полз. Изворачивался червём, тонул в пустоте, а когда возвращался из неё, вцепившись в железо, продолжал ползти. Упираться и ползти.
На закате какого-то дня обессиленный комочек плоти вывалился из трубы. Мирон лежал ободранный и голодный среди пепла, вдыхая едкий запах последствий чего-то масштабного и сокрушительного, с трудом воспринимая происшедшее. Он не узнавал улицы и вообще ничего. Несчастья обрушились беспощадной и нежданной лавиной. Куда-то все подевались. Дым стелился над тротуарами, выжженными деревьями и газонами, между домов, таких печальных и холодных, отталкивающих от себя мертвецким, унылым видом, словно после воздействия на них чудовищной силы. Той самой неизвестной Мирону силы, пролетевшей над кварталом, искорёжив то, что многие называли родиной.