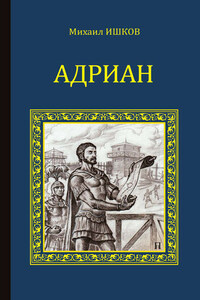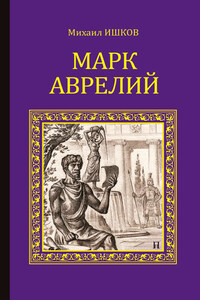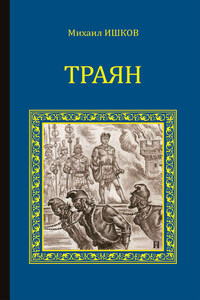Дверь отворилась и никто не вошел.
Оттуда протянуло сквозняком, затем жутью. Ледяной ветерок пробежал по ногам. Наконец дверь, многозначительно скрипнув, закрылась.
Мы вопросительно глянули друг на друга.
В привокзальном кафе было сумрачно, малолюдно и на удивление тихо. Главные события здесь разыгрывались ближе к вечеру, когда пассажиры, ожидавшие последних рейсов автобусов и электричек, покидали кафе и сюда начинала подтягиваться братва в обнимку с разбитными девицами, которые обычно первыми затевали драки.
К полуночи здесь становилось весело, а то и жарко.
Я обычно покидал заведение до начала разгула, но на этот раз засиделся. Встретился со старым дружком, примчавшимся в Россию, чтобы повидаться со мной. Питеру-Алексу фон Шеелю, барону, в прежней российской жизни подмосковному омоновцу, спасшему в горячих точках немало наших соотечественников – в Сухуме, например, – пришлось по вкусу наше привокзальное кафе. В Германии он фигура, руководит неким благотворительным фондом «Север-Юг», ратующим за понимание между благополучной Европой и изголодавшейся Африкой, однако солянку по-московски предпочитает вкушать во «Флоксе».
Водочку тоже. Здесь мне дерьма не наливают и только потому, что за стойкой возвышается моя одноклассница, гордившаяся, что хотя бы из всего класса я один вышел «в люди» – то есть стал литератором.
Между нами, должность невелика и скудна на гонорары, но школьную подругу я переубеждать не стал.
После происшествия с дверью я повел себя осторожнее и прежде, чем обратиться к Петьке, огляделся.
Слежки не было. Враг отказывался подслушивать? Впрочем, этот странный дверной маневр мог означать что угодно.
Я спросил:
– Если твой отец утверждает, что в Нюрнберге Гесс солгал, когда же он сказал правду?
– В мемуарах, которые исчезли в тот же день, когда его нашли повесившимся в тюрьме Шпандау. Или повешенным, – уточнил Шеель.
Петр пожал плечами.
– Лично я сомневаюсь, стоит ли ворошить прошлое. С другой стороны, если рассказанное папашей – правда, это во многом объясняет немыслимую тяжесть боевых действий на Восточном фронте и не поддающееся разуму количество наших потерь.
Мы не чокаясь выпили. Петр даже не поморщился, закусил соленым огурчиком, наколол на вилку кружок колбасы. В этом, выражаясь языком незабвенного Трущева, присутствовал некий сюрчик – о главной тайне Великой Отечественной вот так под водочку, в привокзальной забегаловке, за измызганным столом?..
– Ты не переживай, – закусив, успокоил меня Петр. – Папаша называет эту историю «версией». Я молчу: версия – так версия. Хотя фрау Магди одобрила, заявила – пора публично рассказать об этом. Кстати, после войны нашим разведчикам – и не только папаше и его альтер эго Закруткину – было поручено вскрыть нутро Рудольфу Гессу. Эти двое ближе других подобрались к нему, но в последний момент что-то не заладилось. Это была одна из причин, по которой отец и его названный братец отказались возвращаться в Советский Союз. Иначе им бы здесь…
Петр обреченно чиркнул вилкой вдоль горла.
– Правда, был еще один нюанс – в Москве арестовали их крестника и куратора – Трущева. Мне он был дедом. Кроме пособничества Берии и шпионажа в пользу английской разведки, Николаю Михайловичу пришили антисоветскую агитацию. Он в бытность сотрудником НКВД якобы организовал подпольную оппозиционную ячейку каких-то «симфов» или «зналов», которые вместе с небезызвестным Нильсом Бором и графом Сен-Жерменом агитировали за согласие. Усек – не за мир во всем мире, а за согласие! Такие дела, дружище. Интересно, как следователи квалифицировали этот уклон? Так берешься?
Одобрение фрау Магди, мачехи Петьки, прозвучало для меня как сигнал боевой трубы. Если история зовет, если хронология вкупе с мемуаром настаивают, значит, снова в строй, тем более что за время работы над романом о приключениях