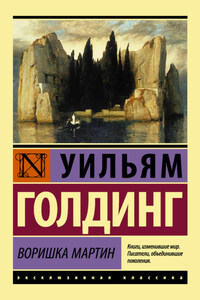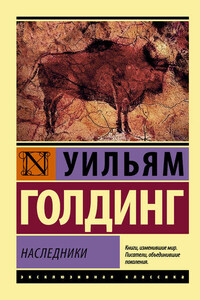Я ходил по книжным развалам, где некогда пурпурные, а ныне выцветшие тома с загнутыми уголками страниц вспыхивали белой осанной. Я видел людей, увенчанных двойной короной, с посохом и бичом в руках – символами славы и власти. Я понял, как звездой становится шрам, я на себе ощутил упавшую искорку, чудотворную и исполненную Святого Духа. И со мной шагало мое прошлое: в ногу, заглядывая мне за плечо серыми ликами. Я живу на Парадайз-Хилл, «отрадном холме», в десяти минутах от станции, в тридцати секундах от лавок и местного паба. И все же я – распаленный дилетант, истерзанный иррациональным и бессвязным, пребывающий в неистовом поиске и уже вынесший приговор самому себе.
Когда я потерял мою свободу? Ведь некогда я был свободен. Обладал правом выбора. Причинно-следственная механика есть статистическая вероятность, и все же мы порой действуем ниже или за гранью этого порога. Свободную волю нельзя обсуждать, ее можно лишь познать на личном опыте, подобно цвету или вкусу картошки. Помнится мне один такой случай. Я, совсем еще малышом, сидел на каменном бордюре пруда с фонтаном в центре парка. Ярко сияло солнце, склоны пестрели красными и синими цветами, зеленела лужайка. Невинность и безгрешность, лишь плеск и брызги фонтана в центре. Я выкупался, утолил жажду и теперь сидел на прогретом каменном краешке, безмятежно размышляя над следующим своим занятием. От меня по всему парку разбегались дорожки из галечника, и в какую-то секунду я оказался всецело захвачен новым знанием. Любая из этих дорожек была мне доступна. И все они манили одинаково. По одной из них я и припустился вскачь, предвкушая радость от вкуса картошки. Я был свободен. Сделал выбор.
Как я утратил мою свободу? Надо вернуться и рассказать всю историю заново. История эта любопытна, но не внешними событиями, а скорее тем, как ее вижу я, единственный повествователь. Ибо время не выложить в ряд, как дорожку из кирпичей. Эта прямая линия от первого младенческого всхлипа до последнего вздоха – мертвая абстракция. У времени два состояния. Одно из них столь же естественно присуще нашему восприятию, как вода для скумбрии. Второе состояние – память, чувство бренной суетности мира, где один день кажется ближе другого, потому что он более важен; а вон то событие зеркально отражает вот это, а те три происшествия вообще обособились своей исключительностью и не укладываются в прямую линию. Тот день в парке я ставлю первым в моей повести, и не оттого, что я был малюткой, чуть ли не младенцем, а потому что свобода стала для меня более ценной, коль скоро мне все реже и реже удается вкусить картофеля.
Все системы я развесил по стене под стать ненужным шляпам. Не годятся ни формой, ни размером. Каждая из них заимствована, сшита по чужим лекалам; одни безынтересны, другие потрясают красотой. Но я прожил достаточно долго и могу требовать фасон, который подошел бы ко всему, что мне известно. И где мне его взять? Тогда зачем я все это пишу? Может, это и есть тот «фасон», который я ищу. Вон в середине висит марксистская шляпа; хоть когда-нибудь я думал, что она прослужит мне до конца жизни? А чем плоха христианская скуфейка, которую я почти не надевал? Рационалистическая шляпа Ника прикрывала от дождя, казалась несокрушимой панцирной броней, тусклой и благопристойной на вид. Сейчас она выглядит мелкой и довольно глупой; котелок как котелок, очень формальный, очень законченный, очень невежественный. Имеется и школьная кепка. Я просто повесил ее на гвоздик, понятия не имея о тех шляпах, которые доведется вешать с ней по соседству, когда приключилась та вещь – я имею в виду самостоятельно принятое решение, – за которую пришлось заплатить свободой.