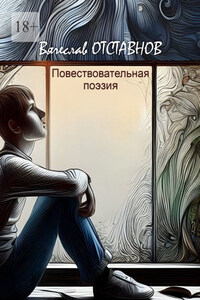Своими ногами
Это книга для тех, кому нужна мотивация жить. Кто чувствует себя отвергнутым обществом и собой, кто вязнет в страхе и нуждается в поддержке.Это история женщины с редким диагнозом «парциальный гигантизм», которая поставила себе цель стать счастливой.Сделала карьеру в журнале, родила ребенка, создала успешный онлайн-проект, путешествует и заботится о себе.Здесь рассказы о борьбе с зависимостью, проблемами и тоской серой жизни. Примеры смелых поступков, уязвимости и веры в мечту. Книга содержит нецензурную брань.
| Жанры: | Руководства, Общая психология, Биографии и мемуары |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | Неизвестен |
Читать онлайн Своими ногами
Книга заблокирована.
Вам будет интересно