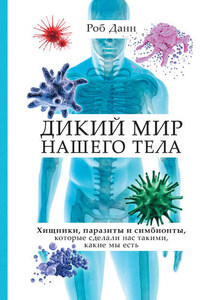Деревню заняли ближе к вечеру, когда небо поблекло и светило туманом у края, как это бывает перед затяжным снегопадом. Сопротивления не было. Дома стояли без признаков жизни. Пустые, перекошенные, с обвалившимися крышами, выбитыми рамами и прогнившими заборами. Всё здесь будто замерло. Погнутые ворота, перевёрнутая телега у двора, обугленные доски сгоревшего сарая. Где-то в глубине ещё тянулся дым из щелей покосившейся хаты. Воздух был пропитан гарью, влажным деревом, остывшим пеплом. Пахло выжженной землёй и чем-то тяжёлым, человеческим, но сразу не разобрать, что это было на самом деле – то ли страх, то ли опустошение. По улицам бродили худые собаки, чужие, недоверчивые; они держались на расстоянии, слабо скалясь на посторонних.
На краю деревни, ближе к заброшенному колодцу, у костра, собрались бойцы, человек семь. Там, где когда-то был огород, теперь только мокрая чёрная земля да заброшенные клумбы, вросшие в мусор. Вокруг валялись пустые гильзы, сломанные ящики, обугленные доски, старая кукла без головы в грязном сугробе, перевёрнутый чайник, в котором ещё держалась грязная вода. Всё это выглядело как сцена из чужой жизни, будто они случайно попали в чей-то сон, уже давно забытый.
Они сидели как могли: кто на ящике, кто на полене, кто просто на куске полиэтилена, расстеленном поверх грязи. Некоторые молчали, кто-то ковырял землю щепкой. Над костром кипела большая жестяная банка, из которой то и дело вырывался пар. Пахло чем-то простым: тушёнкой, морковью, немного пережаренным луком. Кто-то добавил туда макароны из сухого пайка. Есть особенно не хотелось, но звук варки сам по себе был успокаивающим.
Один из бойцов снял берцы и медленно стянул мокрые носки. Они хлюпали, были грязные по щиколотку. Он выжал их прямо в землю, и тёплая вода тут же исчезла в закопчённом снегу. Другой боец, щуплый, с короткой стрижкой, достал из нагрудного кармана пачку сигарет, хлопнул по донышку, вытащил одну, закурил. Затянулся глубоко, с шумным вдохом, как будто только так мог окончательно почувствовать, что всё закончилось, хоть и ненадолго. Передал сигарету по кругу. Курили молча. Каждый в себя.
Бойцы переглядывались редко, словно боялись столкнуться взглядами. Никто не спрашивал, как дела. Все знали, день прожит. Ещё один. Что будет дальше, никто не знал. И, честно говоря, в этот момент никто не хотел знать. Просто сидели у огня и молчали. Это было единственное, что сейчас имели право делать.
– А госпиталь, что за мостом, – вдруг сказал один, не глядя ни на кого, – помните? Где мы раненых грузили. – Все замолчали, только кто-то тихо шевельнулся.
– Помним, – кто-то отозвался. – Там девчонку тянули на верёвке. Ногу почти оторвало.
– А того, с прострелом в бок? Он шептал, чтобы его не поворачивали. Всё боялся, что высыпается изнутри.
– Санитары там сами на ногах не держатся. Один говорил, хоть бы капля какая перепала. Говорит, мол, хоть ребёнка спасти можно было бы. Не бинтами же кормить. – Все погрузились вновь в тяжелую паузу.
– Да, у них там… у одного только пальцы были. Всё остальное бинтами замотано, глаза в небо, ближе к богу. – Огонь вспыхнул. Кто-то пошевелил сучок.
– А мы тут… – Боец оглядел остальных и опустил глаза обратно в землю. – Греемся… – никто не ответил ему. Все это знали и без него и лишнее напоминание лишь усиливало покалывания в левом боку.
– Внизу, в крайнем дворе. – Начал другой, что возился все с берцем. – У тех стариков, у них, похоже, что-то осталось. Тепло у них, уютно. Даже чем-то пахнет, жизнью… Там, где забор целый, помните?