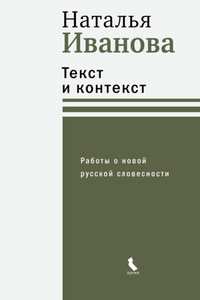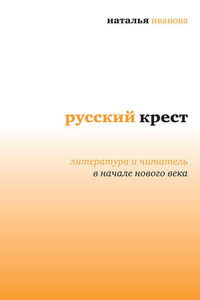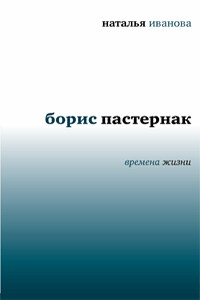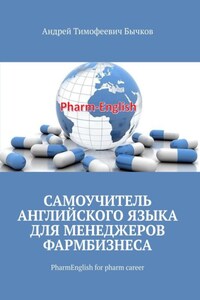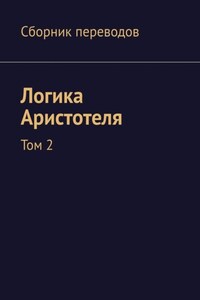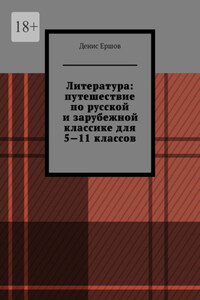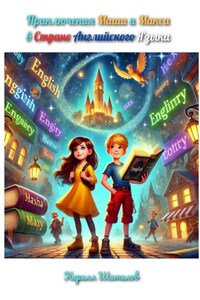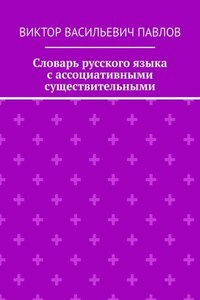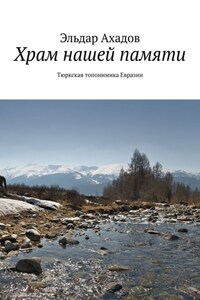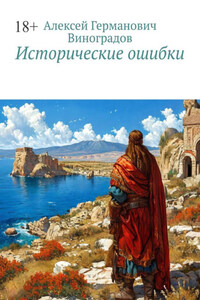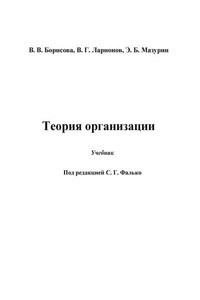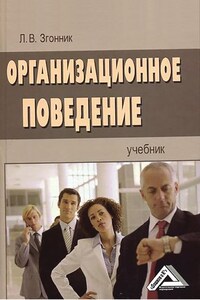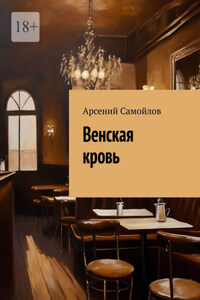Существует устойчивое мнение, что новая и свободная русская литература появилась благодаря либерализации режима, наступившей гласности, после отмены цензуры перешедшей в свободу слова.
Сегодня, проливая слезы – свет? – на(д) недавней историей, хочу развеять этот миф – и сказать, что сами литераторы (писатели, издатели, редакторы и прочие литературные люди) много чего сделали, – прежде всего написали, а еще и сохранили, открыли, отстояли. В общем, это была повседневная, кропотливая, затратная по энергии и мало вознаграждаемая (иногда и малозаметная), но очень важная работа. Участвовало в ней много прекрасных людей, моих соседей по времени, нескольких, как я теперь понимаю, поколений.
Продумывая и собирая эту книгу, я сначала хотела поместить сюда самое-самое и уже выстроила план, а потом поняла, что интереснее идти по реке времен. Именно хронология строит сюжет – и литературы, и общества, и собственной жизни. И будет неправильно ставить метки по наиболее важному, а не по самому пути. Тем более – в те годы, с начала 1980-х по 2020-е, тому 40 лет, все совпало: жизнь, литература, общество – и мои обо всем этом размышления. Чему, чему свидетели мы были. И наблюдатели. Включенные в процесс.
Не всегда мои наблюдения и размышления были точными – но всегда были искренними, и, как показали прошедшие годы, ни от чего не хочется отречься, избавиться, ничего не хочется оставить и забыть. Так ведь все развивалось – и во мне очнулось. Сама судила и сужу строго, но что делать, – свои строгости всегда выносила на профессиональный и читательский суд. Делаю это и сейчас.
Почему я начинаю с 1980 года? Потому что уже тогда усилиями моих будущих коллег в редакциях и за письменными столами начинало развидняться. Свет был виден – и исходил он не только из андеграунда, но и от свежих публикаций. Сколько не резали и не калечили, в литмире становилось разнообразнее, интереснее, в голову лезли ненужные вопросы, запахло близкой весной, дорогие друзья и товарищи. Скажут, она, эта весна, была совсем советская, – не соглашусь. После московских повестей, особенно «Дома на набережной», Юрия Трифонова можно было дышать и писать. Я начала это активно делать с 1981 года. А после внезапной кончины Трифонова стала писать о нем и его прозе книгу. Если проанализировать, что и как появлялось, несмотря на цензуру, станет понятнее, почему к 1986-му все уже было готово.
С тех моментов – сигналов, звоночков, публикаций, о которых надо бы говорить погромче, делать их заметнее – и началась новая литературная жизнь. В том числе – у меня лично. А поскольку все эти десятилетия я сочетала профессии литературного критика, редактора и издателя, то еще раз назову себя так: включенный наблюдатель.
Надежный ли я повествователь? Не мне судить. Да и в принципе – настоящее и прошлое литературы складывается не только из того, «как это было», но и из того, «как я это вижу».
Поэтому можно ее читать в модном ныне формате автофикшн – как книгу про себя. Поскольку в современной русской словесности я существую в трех ролях, это, конечно, отражается в текстах. И является – отчасти – их контекстом.
Начальный план сводился к разделению работ на несколько частей. Первая – теория литературы и критики (в течение нескольких лет я читала курс теории литературы на филологическом факультете МГУ имени Ломоносова и вела семинар по теории критики с магистрантами). Вторая – история литературы (предметом отдельного интереса для меня был и остается советский период существования русской словесности, особенно эпоха сталинизма, раннего, зрелого и позднего, а также 1960-е как оттепель – 1970-е как время застоя – перестройка и гласность и постсоветский период, тоже на глазах становящийся историческим). И третье, основное и объединяющее – непосредственно литературная критика, поскольку все эти годы и при всех занятиях я оставалась «практикующим» критиком.