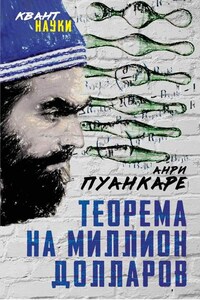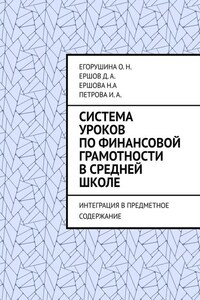Для поверхностного наблюдателя научная истина не оставляет места никаким сомнениям: логика науки непогрешима, и если ученые иногда ошибаются, то это потому, что они забывают логические правила.
Математические истины выводятся из небольшого числа очевидных предложений при помощи цепи непогрешимых рассуждений: эти истины присущи не только нам, но и самой природе. Они, так сказать, ставят границы свобод творца и позволяют ему делать выбор только между несколькими относительно немногочисленными решениями. Тогда нескольких опытов будет достаточно, чтобы раскрыть нам, какой выбор им сделан. Из каждого опыта с помощью ряда математических дедукций можно вывести множество следствий, и таким образом каждый из них позволит нам познать некоторый уголок Вселенной.
Вот в таком виде представляется широкой публике или учащимся, получающим первые познания по физике, происхождение научной достоверности. Так они понимают роль опыта и математики. Так же понимали ее сто лет тому назад и многие ученые, мечтавшие построить мир, заимствуя из опыта возможно меньше материала.
Но, вдумавшись, заметили, что математик, а тем более экспериментатор, не может обойтись без гипотезы. Тогда возник вопрос, достаточно ли прочны все эти построения, и явилась мысль, что при малейшем дуновении они могут рухнуть. Быть скептиком такого рода значит быть только поверхностным. Сомневаться во всем, верить всему – два решения, одинаково удобные: и то и другое избавляет нас от необходимости размышлять.
Итак, вместо того чтобы произносить огульный приговор, мы должны тщательно исследовать роль гипотезы; мы узнаем тогда, что она не только необходима, но чаще всего и законна. Мы увидим также, что есть гипотезы разного рода: одни допускают проверку и, подтвержденные опытом, становятся плодотворными истинами; другие, не приводя нас к ошибкам, могут быть полезными, фиксируя нашу мысль; наконец, есть гипотезы, только кажущиеся таковыми, но сводящиеся к определениям или к замаскированным соглашениям.
Последние встречаются главным образом в науках математических и соприкасающихся с ними. Отсюда именно и проистекает точность этих наук; эти условные положения представляют собой продукт свободной деятельности нашего ума, который в этой области не знает препятствий. Здесь наш ум может утверждать, так как он здесь предписывает; но его предписания налагаются на нашу науку, которая без них была бы невозможна, они не налагаются на природу. Однако произвольны ли эти предписания? Нет; иначе они были бы бесплодны. Опыт предоставляет нам свободный выбор, но при этом он руководит нами, помогая выбрать путь, наиболее удобный. Наши предписания, следовательно, подобны предписаниям абсолютного, но мудрого правителя, который советуется со своим государственным советом.
Некоторые были поражены этим характером свободного соглашения, который выступает в некоторых основных началах наук. Они предались неумеренному обобщению и к тому же забыли, что свобода не есть произвол. Таким образом, они пришли к тому, что называется номинализмом, и пред ними возник вопрос, не одурачен ли ученый своими определениями и не является ли весь мир, который он думает открыть, простым созданием его прихоти[1]. При таких условиях наука была бы достоверна, но она была бы лишена значения.
Если бы это было так, наука была бы бессильна. Но мы постоянно видим перед своими глазами ее плодотворную работу. Этого не могло бы быть, если бы она не открывала нам чего-то реального; но то, что она может постичь, не суть вещи в себе, как думают наивные догматики, а лишь отношения между вещами; вне этих отношений нет познаваемой действительности.