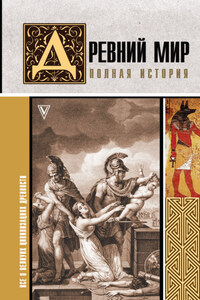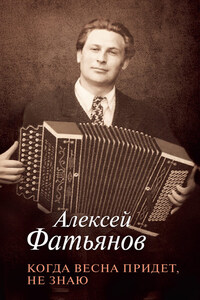Мельник Назаров не торопясь подъехал к воротам, степенно вылез из брички, снял картуз и, крестясь, глядя в небо, сказал работнику Левону:
– Пощупай левую переднюю у коня.
Неласково, подозрительно посмотрел на старый, осевший в землю дом – в два маленькие его окна, точно в глаза человека, кашлянул и грузно опустился на лавку у ворот, помахивая картузом, чтоб отогнать надоевшего шмеля.
– Татьян!
Лысый Левон тенористо ответил со двора:
– На реку пошла, белье полоскать.
– Баню топили?
– А как же!
За рекою, на жёлтых буграх песка, вытянулся ряд тёмных изб, ослепительно горели на солнце стёкла окон, за селом поднималось зелёное облако леса. По эту сторону, на берегу, около маленького челнока возился мужик.
«Стёпка Рогачёв, пёс», – мысленно отметил мельник.
– А ногу-то мерину зашиб ты! – сказал Левон, выглядывая за ворота.
– Позови Дашку. А Николай где?
– Николай – ковши чинит, слышь – стучит? Дарья-а! Она в огороде, поди-ка!
Почёсывая болевшую спину о брёвна и расправляя усталые ноги, хозяин бормотал:
– Города эти… Зовутся – мощёны улицы, а – яма на яме! Как ни съездишь – всё, гляди, чего-нибудь испорчено…
Со двора выскочила Дарья, большая, растрёпанная, курносая, с двумя красными опухолями на месте щёк.
– Здрастуйти!
Дважды качнула головой и, подняв руки, начала быстро закручивать белесые, выгоревшие волосы.
Назаров, неодобрительно посмотрев на неё, плюнул, отвернулся в сторону.
– Застегнулась бы, лешая, чего с голыми грудями бегаешь! Возьми одёжу, встряхни, да самовар наставь…
– Есть тут когда застёгиваться! – сердито ответила девушка, прикрывая грудь большой грязной рукою.
Она надула губы, густые брови её, сойдясь, опустились на синие маленькие глаза, и, тяжело топая босыми ногами, пошла прочь, шмыгая носом.
Глядя вслед ей, мельник подумал:
«Был бы я моложе, не щеголяла бы эдак-то! Я б тебя застегнул на все крючки…»
С устатку у него ломило кости и тело обняла разымчивая лень. Надо бы посмотреть, что делает сын, но старик вытянул ноги, опёрся спиною о стену и, полузакрыв глаза, глубоко вдыхал тёплый воздух, густо насыщенный запахами смол, трав и навоза.
– Сто-ой! – покрикивал Левон, управляясь с лошадью. В тишине чётко стучал молоток по шляпкам гвоздей, на реке гулко ботали вальки[1], где-то на плотине звенела светлым звоном струя воды. За селом, над лесами, полнеба обнял багровый пожар заката, земля дышала пахучей жарой; река и село покраснели в лучах солнца, а кудрявые гривы лесов поднимались к небу, как тёмные тучи благоуханного дыма.
– поёт Дарья высоким голосом.
– Левон! – слышен негромкий молодой голос.
– Ай?
– Али отец приехал?
– Ну да!
– Что ж ты не сказал, лысый?
– А сам-от не слышишь?
Не ходите о́полночь, э-эй!
– заунывно тянет Дарья.
«Хорошо дома!» – думал Назаров в тишине и мире вечера, окидывая широким взглядом землю, на десятки вёрст вокруг знакомую ему. Она вставала в памяти его круглая, как блюдо, полно и богато отягощённая лесами, деревнями, сёлами, омытая десятками речек и ручьёв, – приятная, ласковая земля. В самом пупе её стоит его, Фаддея Назарова, мельница, старая, но лучшая в округе, мирно, в почёте проходит налаженная им крепкая, хозяйственная жизнь. И есть кому передать накопленное добро – умные руки примут его…
«А Дашка напрасно воет!» – подумал старик, кашлянув.
Мысль о работнице тотчас же вызвала другую: «Шибко начал я стареть! Пять-то десятков с семью годами – велико ли время?»
Вышел за ворота сын, кудрявый, со стружками в волосах, с засученными по локоть рукавами, без пояса, коренастый, широкогрудый.
– А я тебя ищу – где, мол, батя?
– Разморило меня.
– Ладно съездил?
– Ничего. Лошадь вон приступает…
Оглянув мокрую, выпачканную тиной и смолой одежду сына, потное скуластое лицо его, он повторил: