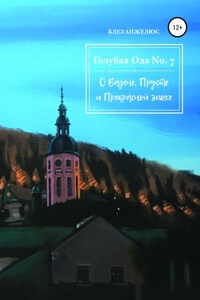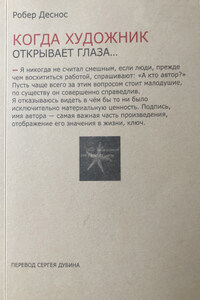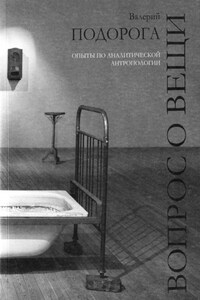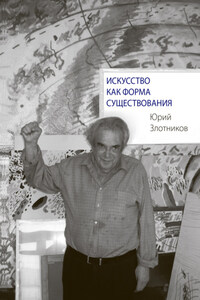«… Горе или радость в равной мере
ему к лицу: как пышные одежды
царя. И как лохмотья нищеты.
Он все примерил и нашел, что все,
что он примерил, оказалось впору»
Иосиф Бродский, «Рембрандт. Офорты», 1971
Если честно, необязательно было глядеть на небо, чтобы понять, что эта ночь будет особой, она вновь будет освещена Вифлеемской звездой, указующей путь почти потерявшим надежду восточным магам найти заброшенные, пропахшие слежавшимся сеном и ослиной мочой, ветхие, как куст старой смоковницы среди равнин безводной Палестины, ясли, в которых малое дитя, ещё без имени и преходящей мирской славы, крохотным перстом на фоне звёздного ночного неба рисовало символы вечной Голгофы и земных страстей.
Пока эта мысль набирала свою силу, произрастая символическим чертополохом, из тысячелетней почвы моих сомнений и научного безверия, я налил из медной джезвы раскалённый и густой кофе в чашку из тончайшего люневильского фаянса с удивительно нежным рисунком однотонных ирисов, запечатлённых неизвестным лотарингским мастером в цвете блеклого бордо.
Мой взор из окна был направлен на лицезрение деревьев, чёрных и одиноких, словно вдовьи сироты застывших в холодном декабрьском воздухе, и наивно ожидавших то ли весны, то ли средневековых даров Святого духа.
Белые шапки снега были им так к «лицу», пока я вдруг не понял, что это вовсе не снег, а стаи ангелов, усевшихся подобно птицам на чёрных ветках замёрзших деревьев и ожидавших чуда.
Ну это было и неудивительно: ведь снег не может петь, в то время как со стороны ангельских стай была явственно слышна мелодия одного из григорианских хоралов – тихая и такая смиренная, что невольно из моего глаза вытекла одинокая слеза и, чуть подождав, упала в бокал с золотистым Laphroaig, после чего сразу же воздух комнаты наполнился древними запахами нефти и торфа.
Я взглянул на небо, голубое с прожилками кобальта, как будто бы только что сошедшее с одного из «сельских» полотен Брейгеля-Старшего.
Мой беззвучный вопрос завис в декабрьском воздухе и был тут же подхвачен пролетающей сорокой – «Божий промысел, какие чудные откровения таишь ты в себе?»
Пока я размышлял над ролью музыки в формировании душевных качеств и о количестве ординарных нот в «Kyrie eleison», шум со двора усилился и моё внимание привлекли маленькие фигурки крестьян, воровато выплывающие из густого тумана, и тихо бредущие в сторону больших обеденных столов, нагруженных сочными окороками, винами и сырами, словно брюхастые торговые галеры Ост-Индской компании.
В каком году я видел этот праздник и чему он был посвящён?
Рождению какого бога я был обязан этому веселью? Какой урожай был собран на радость всем и каждому?
В задумчивой тишине я водил кончиком столового ножа по засохшим губам, пока не догадался о том, что лучше запустить его, этот нож, в маслёнку, что я и сделал немедленно, а затем старательно размазал масло по поверхности хрустящей гренки. Масло, соединяясь с ароматом ещё тёплого хлеба, пахло так нежно, как будто руки моей матери, тогда ещё молодой и не потерявшей окончательно веры в себя, кутавшей меня когда-то в детской деревянной колыбели.
Пока я задумчиво черпал ложкой вишнёвый джем со дна стеклянной банки, я неожиданно вспомнил, что зима тысяча пятьсот шестьдесят четвёртого года во Фландрии была почти бесснежной и стареющий от многочисленных сомнений Питер Брейгель, тогда ещё не «Старший», часто бродил в окрестностях Антверпена в одних кожаных сандалиях, а то и босиком, пытаясь ощутить невидимое тепло жизни, которое хранила земля в своих скрытых глубинах, и источала его весной, вспоротая плугом деревенского пахаря, как перепелиная тушка охотничьим ножом.